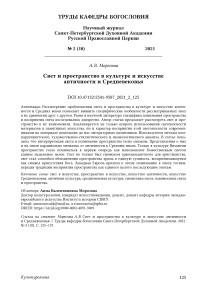Свет и пространство в культуре и искусстве античности и Средневековья
Автор: Морозова Анна Валентиновна
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2 (10), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрение проблематики света и пространства в культуре и искусстве античности и Средних веков позволяет выявить специфические особенности рассматриваемых эпох в их сравнении друг с другом. Ранее в научной литературе специфика понимания пространства и восприятия света исследовались дискретно. Автор статьи предлагает рассмотреть свет и пространство в их взаимосвязи. Анализируется не только широта использования светоносности материалов в памятниках искусства, но и характер восприятия этой светоносности современниками на материале дошедших до нас литературных памятников. Используются методы компаративистского, художественно-стилистического и иконологического анализа. В статье показано, что интерпретация света и понимание пространства тесно связаны. Представления о них и их связи кардинально менялись от античности к Средним векам. Только в культуре Византии пространство стало пониматься в первую очередь как наполненное Божественным светом единое неделимое целое. Свет не только был символом трансцендентного для христианства, свет стал способом объединения пространства храма в единую сущность, воспринимавшуюся как символ присутствия Бога. Западная Европа пришла к этому пониманию в эпоху готики, передав традиции восприятия пространства как единого целого последующим эпохам.
Свет в искусстве, пространство в искусстве, искусство античности, искусство средневековья, античная культура, средневековая культура, символика света, взаимосвязь света и пространства
Короткий адрес: https://sciup.org/140294884
IDR: 140294884 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_2_125
Текст научной статьи Свет и пространство в культуре и искусстве античности и Средневековья
About the author: Anna V. Morozova
Doctor of Culturology, PhD in History of Art, Associate Professor, Associate Professor of the Department of West European Art History of the Institute of History of Saint-Petersburg State University.
Article link : Morozova A. V. Light and Space in Culture and Art of Antiquity and Middle Ages. Proceedings of the Department of Theology of the Saint Petersburg Theological Academy , 2021, no. 2 (10), pp. 125–137.
Проблематика света в средневековом искусстве всегда привлекала внимание исследователей1, которые справедливо пишут о метафизическом истолковании света как в восточном, так и в западном Средневековье. Интересно, однако, сравнить понимание света и блеска в Средние века и в антично-сти2, а также попытаться понять проблематику света в Средневековье и античности вкупе с проблематикой архитектурного пространства. Совместное рассмотрение света и пространства в культуре и искусстве Средних веков дает возможность по-новому взглянуть на специфику осознания и восприятия пространства человеком Средневековья. Именно Средние века придут к той гомогенности пространства как единого целого, без которой немыслимо ни искусство Ренессанса, ни искусство барокко.
Свет и сияние как эстетические категории и критерии красоты высоко ценились еще в античности. В гомеровскую эпоху светоносность воспринималась как божественное качество. В «Илиаде» и «Одиссее» красота произведения искусства (под которым чаще всего выступает произведение прикладного искусства или оружие) видится сказителю прежде всего в драгоценности материала, из которого это произведение создано. Предпочтение отдается золоту и серебру за их способность излучать сияние и блеск.
Про Гефеста в «Илиаде» Гомер говорит, что, готовясь к встрече Фетиды, он собрал свои инструменты и «вложил [их] в красивый ларец среброковный»3 (Гомер, Илиада, XVIII, 413) (выделение курсивом отдельных слов или фраз в тексте цитат мое. — А. М.), «Фетида сидела на троне блестящем…» (Гомер, Илиада, XVIII, 422), «на троне серебряногвоздном»4 (Гомер, Илиада, XVIII, 389‒390), Гера, отправляющаяся обольщать Зевса, «ризу златыми застежками выше грудей застегнула. …В уши — прекрасные серьги …вдела, Ярко игравшие: прелесть кругом от богини блистала»5 (Гомер, Илиада, XIV, 180‒183). Щит Ахилла, сделанный Гефестом, Гомер называет «блистательным даром от бога» (Гомер, Илиада, XIX, 3) и «доспехом велелепным, Дивным, какой никогда не сиял вкруг рамен человека»6 (Гомер, Илиада, XIX, 10‒11), «Фетида на землю доспех положила Пред Ахиллесом; и весь зазвучал он, украшенный дивно. Вздрогнули все мирмидонцы; не мог ни один на доспехи Прямо смотреть, отвратились они; Ахиллес же могучий …С радостью взяв, любовался он даром сияющим бога…»7 (Гомер, Илиада, XIX, 12‒13). Таким образом, божественное сияние простые смертные не в силах вынести, способен его выдержать только Ахилл — сын смертного и богини, потому что его природа родственна природе этого сияния.
Гера, обращаясь с просьбой ко Сну, в награду сулит ему «трон велелепный, нетленный, Златом сияющий …»8 (Гомер, Илиада, XIV, 238‒239). Зевс, выезжая «в свет», заботится о великолепии своего выезда: « Золотом сам он оделся; в руку художеством дивный Бич захватил золотой и на блещущей стал колес-нице…»9 (Гомер, Илиада, VIII, 43‒44)
Примеры можно было бы умножать до бесконечности. Действительно, драгоценные металлы, прежде всего золото и серебро, но также медь и железо, считались за свою редкость и блеск божественными. Язычники, поклоняясь силам природы, высоко ставили ее первобытную красоту, воплощение которой они видели в блестящих и сверкающих драгоценных металлах.
Лучезарность ценилась древними греками гомеровской эпохи и в постройках. Гомер в «Одиссее» так описывает Дом Алкиноя на феакийском острове Схерии:
«…Одиссей же Тою порой подошел ко дворцу Алкиноя…
Все лучезарно , как в небе светлое солнце иль месяц,
Было в палате любезного Зевсу царя Алкиноя,
…Вход затворен был дверями, богато обитыми златом ;
Притолки их из сребра утверждались на медном пороге;
Также косяк их серебряным был, а кольцо золотое » (Гомер, Одиссея, VII, 81‒90)10.
Близко процитированному и описание Дома Менелая в Спарте:
«Видишь, как много здесь меди, сияющей в звонких покоях;
Блещет все златом, сребром , янтарями, слоновою костью;
Зевс лишь один на Олимпе имеет такую обитель;
Что за богатство! Как много всего!
С изумленьем смотрю я» (Гомер, Одиссея, IV, 72‒75)11.
Надо заметить, что Гомер включает в поэмы описание только двух построек, и эти постройки — дворцы. Ни один храм у Гомера не описан! Встречаются упоминания ряда других жилищ — например, дома Одиссея на Итаке. Но, по сути, сам дом Одиссея не описан, описаны только предметы, в нем находившиеся, в том числе ложе, вырезанное в стволе растущей маслины.
Э. Панофский, анализировавший понимание перспективы в культуре и искусстве от античности до Ренессанса12, справедливо замечал, что древние греки еще не имели представления о пространстве как о чем-то едином, существующем до попадания в него предметов и после их исчезновения из него, поскольку в изобразительном искусстве древних греков каждый предмет изображается со своей собственной точки зрения. «Его [Средневековья] миссия в истории искусства состояла в том, чтобы привести к подлинному единству то, что в античности существовало как множество …единичных вещей»13, — отмечает ученый. Судя по всему, и представления о внутреннем пространстве постройки как о чем-то автономном по отношению к украшающим его деталям и утвари у древних греков тоже достаточно долго не было. «Лучезарность» покоя понималась прежде всего как «лучезарность» отдельных предметов, в нем находящихся.
Для греков важна пропорциональность построек, гармония между длиной, шириной и высотой, но это — пропорциональность именно экстерьеров.
Родственно описаниям Гомера и описание храма Посейдона в мифической Атлантиде в диалоге «Критий» Платона (IV в. до Р. Х.): «Все это здание снаружи они [цари] покрыли серебром , кроме акротериев, акротерии же были позолоченные . Внутри можно было видеть потолок из слоновой кости, расцвеченный золотом, серебром и орихалком 14; все прочее, стены, колонны и пол, они покрыли орихалком . Поставили внутри и золотые изваяния… А около храма, снаружи, стояли золотые изображения всех — и жен, и потомков, которые родились от десяти царей…»15. В данном случае это уже храм, а не светская постройка. Но принцип описания ее «светоносности» тот же. Для Платона «светоносность» здания храма сосредоточена в основном в светоносности украшающих его компонентов: потолка из слоновой кости, расцвеченного драгоценными металлами, сверкающих стен, колонн и пола, золотых изваяний.
Описание Платона скорее исключение. В целом, из древнегреческой культуры послегомеровской эпохи пиетет к драгоценным металлам с их блеском и сиянием уходит или, во всяком случае, отходит на второй план перед задачами красоты пропорций экстерьеров, жизнеподобия, выразительности образов, передачи движения и т. д.
Архитектура древних греков эпохи классики была рассчитана на ее восприятие прежде всего снаружи. Внутрь храмов допускался только священник. В храмах могли храниться драгоценности: например, казна Афинского союза хранилась в Парфеноне. Внутри храмов могли стоять и бесценные произведения искусства, спрятанные туда от воздействия непогоды и для безопасности. В Парфеноне стояла статуя Афины Фидия, выполненная в хрисоэлефантинной технике из золота и слоновой кости. Павсаний (II в. по Р. Х.) в своем «Описании Эллады», например, подробно описывает внешний вид храма Зевса в Олимпии и очень скуп на слова, находясь внутри храма, подробно останавливаясь только на хрисоэлефантинной статуе Зевса работы Фидия16 (Павсаний, Описание Эллады. Т. 2. X, XI).
В целом, убранству интерьеров храмов греки не уделяли такого внимания, как оформлению экстерьеров. К тому же интерьеры, видимо, в большинстве своем не имели естественных источников света, так как целлы храмов строились без оконных проемов.
Только в эпоху поздней классики и эллинизма, в период затухания общественной жизни античных полисов, гражданской войны между Афинами и Спартой, а потом захвата греческих городов Македонией и роста индивидуалистических тенденций в культуре греки начинают ценить интерьеры своих построек17.
II-м веком по Р. Х. датируется диалог «О доме» Лукиана. Последний описывает некую идеальную гражданскую постройку, в которой подчеркивает ее наполненность светом. Хвалит «то, что хоромы обращены к наипрекраснейшему часу дня [на восток] …и взошедшее солнце проникает в покои сквозь распахнутые настежь двери и досыта наполняет их своим светом с той же стороны, куда обращали свои святилища наши предки; прекрасная соразмерность длины с шириной, и той и другой с высотой, а также свободный доступ света , прекрасно приноровлены к каждому времени года, — разве все это не приятные качества, заслуживающие всяческих похвал?»18 — восклицает автор. Здесь впервые «лучезарность» покоя понимается как его освещенность солнцем, наполненность дневным светом. Лукиан продолжает: «Нельзя не подивиться далее кровле, любезной простоте ее и безупречной отделке и позолоте , положенной гармонично и с чувством меры, без ненужного изящества. …Посмотри, и увидишь: не напрасно положена здесь позолота , не для одного лишь услаждения взоров рассеяна среди остальных украшений, но дает она некий приятный отблеск и весь дом румянит красноватым сиянием »19. Лукиан остается верен греческой традиции и прежде всего отмечает красоту экстерьера, заключающуюся, в том числе, и в использовании позолоты.
В «Десяти книгах об архитектуре» Витрувия (I в. до Р. Х.) красота построек описывается дискретно. Витрувий видит ее в первую очередь в красоте украшающих деталей — колонн, карнизов, фронтонов и т. д.
У древних римлян интерес к драгоценным материалам присутствует, но не за их «сакральность», а за их редкость и дороговизну; это, скорее, интерес антикварного характера. Как известно, римский наместник Гай Веррес, беззастенчиво грабивший сицилийцев, по выражению Цицерона (I в. до Р. Х.), «как грузчик»20 свозил к себе изделия из золота, серебра и драгоценных камней: « серебряную утварь», « золотые кубки и чаши», « золотые шары», «канделябр Юпитера» из самоцветов. «…Он …доказал, — писал Цицерон, — что его привлекают вовсе не только мастерство, но и стоимость вещи и желание поживиться…»21.
Цицерон, взявшийся по просьбе сицилийцев собирать обвинительный материал на Верреса, скрывает свою любовь к искусству, по его мнению, не достойную истинного римлянина, но она проявляется в его восхищении многими из похищенных Верресом произведений. Например, Цицерон свидетельствует, что у царевича из Сирии Веррес забрал «канделябр изумительной работы», «осыпанный чудесными камнями…». «Канделябр обладал таким блеском, — пишет Цицерон, — какой должен исходить от столь блестящих и великолепных камней, отличающихся таким разнообразием работы, что искусство, казалось, вступило в состязание с пышностью, такими большими размерами, что он, несомненно, предназначался не для повседневного употребления в доме, а для украшения величественнейшего храма»22. «Канделябр, — продолжает Цицерон, — который должен был освещать и украшать своим блеском храм Юпитера Всеблагого Величайшего, будет стоять у Верреса [во время его развратных пиров]»23. Для Цицерона, как и для греков, пространство храма приобретает блеск благодаря украшающим его сокровищам.
В эпоху раннего христианства понимание пространства кардинально меняется. Вначале это пространство катакомб, пространство полу-сумеречное, освещавшееся только языками пламени свечей или светильников. Однако после 313 г. христиане, не таясь, начали возводить базилики. Как известно, они были рассчитаны в первую очередь на красоту интерьера и воспринимались как «дом для молящихся». Их пространство было хорошо освещено множеством окон, а на стенах находились многочисленные мозаики, отражавшие свет. Как мудро замечал Б. Р. Виппер, «…интерес к композиции внутреннего пространства является несомненным отражением …общей тенденции эпохи… Архитектура тех эпох, которые проявляют особенный интерес к человеческой душе, всегда характеризуется перевесом интерьера над экстерьером (ярким примером может служить древнехристианская базилика, столь бедная снаружи и такая яркая, красочная, пышная внутри)»24. Однако письменных источников с описанием раннехристианских базилик до нас практически не дошло.
В эпоху раннего Средневековья, с нашествием варваров, пиетет перед све-тоносностью драгоценных материалов возрождается. Варвары как язычники в отношении к блеску и сиянию близки древним грекам и Гомеру. Их восприятие красоты повлияло на западноевропейское христианское Средневековье.
Секретарь Карла Великого и его биограф Эйнхард в 817‒821 гг. в «Жизни Карла Великого», описывая строительную деятельность императора, подчеркивает, что он «построил …в Аахене необычайной красоты базилику и украсил ее золотом, серебром и светильниками …»25 (Эйнхард, Жизнь Карла Великого, 26), «приобрел для церкви священные сосуды из золота и серебра »26 (Эйнхард, Жизнь Карла Великого, 26). «Более других святых и почитаемых мест он чтил собор св. Петра апостола в Риме, в сокровищницу которого им были пожертвованы огромные богатства как в золоте , так и в серебре , а также в драгоценных камнях …»27 (Эйнхард, Жизнь Карла Великого, 27). В эпоху Каролингского Возрождения еще сохраняется представление о красоте интерьера как о красоте находящихся в нем предметов. Осознание самоценности интерьера еще не пришло.
Подробно красоту драгоценных материалов и их сияние будет в своем «Ме-мории» описывать аббат Суггерий в начале XII в.28 Он повествует о «вместительном кубке в сто сорок унций золота, украшенном драгоценными камнями, а именно гиацинтами и топазами, который заменил другой кубок, утерянный во времена нашего предшественника»29. Аббат Суггерий опирался на труды Псевдо-Дионисия Ареопагита (VI в.), подаренные константинопольским императором Михаилом Заикой Людовику Благочестивому и переданные последним в аббатство Сен-Дени. Псевдо-Дионисий считал, что драгоценные материалы, как и сама Природа, созданы непосредственно десницей Божией и, соответственно, их красота является отражением красоты Божественной. Через созерцание красоты предметов реального мира, полагал вслед за ПсевдоДионисием аббат Суггерий, можно подняться к постижению Божественной красоты. «Часто мы созерцаем за пределами обыкновенной привязанности к Церкви, матери нашей, эти разнообразные украшения, одновременно такие старые и такие новые; и когда мы смотрим на удивительный крест св. Элигия — вместе с самыми маленькими крестами — и на эти несравненные украшения… которые помещены на золоченый алтарь, вот тогда я говорю, вздыхая из глубины моего сердца: “Каждый драгоценный камень был твоим одеянием — и топаз, и яшма, и хризолит, и оникс, и сапфир. И берилл, и карбункул, и изумруд…”»30. Аббат Суггерий восклицает в своем «Мемории»: «Когда я наслаждаюсь красотой Дома Господня и многоцветная прелесть камней отвращает меня от внешних забот, а благие мысли, переносясь от материального к нематериальному, склоняют меня к созерцанию многообразия святых добродетелей, то мне кажется, что я нахожусь в каком-то неземном краю, который помещается и не в прахе земном, и не в чистоте небес, и что я Божьей милостью могу неким мистическим образом перенестись из нашего дольнего мира в мир горний»31.
Аббат Суггерий тоже больше восхищается красотой отдельных предметов, чем красотой архитектуры как таковой, хотя именно он считается «отцом» готики. В сравнении новой, возведенной им, церкви аббатства и старой романской постройки, на месте которой был воздвигнут новый храм, аббат Суг-герий подчеркивает прочность, просторность и насыщенность светом своего детища. По всей видимости, представление о пространстве как самоценности уже созрело в умах деятелей эпохи готики, но еще оказалось не до конца осознано ими. Это осознание шло постепенно.
Восхищение светоносностью памятников и материалов, из которых они выполнены, прослеживается во всей западной литературе эпохи готики, в том числе у английских авторов. Джеральд Кэмбрийский в XIII в. в описании Уилтонской церкви повествует о том, что «солнечные лучи проникают в здание “сквозь прозрачное стекло и чистый сапфир” (драгоценное стекло темно-синего цвета, которое в те времена приходилось ввозить с Востока), так что “золотистый свет озаряет лица людей, когда они входят в церковь, и кажется, что все вокруг ликует в лучах отраженного солнца”. Стены хоров … Линкольнского собора, видимо, отделаны каким-то непористым материалом, сверкающим, словно усыпанный звездами небосвод…, и его “танцующие” колонки, “отшлифованные глаже ноготка новорожденного, перебрасываются отражениями призрачных звезд”»32. А Вульфстан в описании Винчестерского собора XI‒XIII вв. пишет о том, как церковь выглядит ночью: «На вершине [крыши] имеется устройство с позолоченными сферами, и их золотистый ореол венчает все творение. Стоит лишь луне воссиять в своем величавом восхождении, как от священного здания возносится к небесным телам встречное сияние; и, когда путник, проходя ночью мимо [церкви], взглядывает вверх, ему кажется, что и у земли есть свои звезды»33. Здесь явно содержится намек на интерпретацию этого «встречного сияния» как чувственного символа христианской веры.
Пожалуй, еще сильнее восприимчивость к эстетике света дает себя знать в контексте византийской культуры. Одним из ярких примеров этого является описание Святой Софии в трактате «О постройках» Прокопия Кесарийского: «I, 1, 29‒30. Блеском своих украшений прославлен он и гармонией своих размеров; …наполнен светом и лучами солнца . Можно было бы сказать, что место это не извне освещается солнцем , но что блеск рождается в нем самом: такое количество света распространяется в этом храме»34. О куполе Св. Софии Прокопий замечает: «I, 1. 42. Оно [сооружение купола], на мой взгляд, как бы витает над всей землей, и все это сооружение постепенно поднимается кверху, сознательно задержавшись настолько, чтобы те места, где, кажется, оно отделено от здания, были проводниками большого количества лучей света »35, «I, 1. 54. Чистым золотом выложен потолок, соединяя с красотой и великолепие; соревнуясь в блеске, его сияние побеждает блеск камней (и мра-моров )»36. И дальше: «I, 1. 59‒60. Кто исчислил бы великолепие колонн и мраморов, которыми украшен храм? …одни показывают багряный цвет, у других, как солнце, сияет белый …»37. И про светскую постройку Бань Аркадия Прокопий замечает: «I. 1.6. Цвет этих блестящих мраморов исключительно белый; они сияют приблизительно так же, как лучи солнца »38.
Таким образом, именно в Византии появляется представление о свете как о важнейшей характеристике единого цельного пространства. Светонос-ность становится наиважнейшей характеристикой интерьера Св. Софии. Аахенская капелла в представлении Эйнхарда была красива, потому что в ней было множество предметов из золота, серебра и драгоценных тканей. А Св. София красива сама по себе, и при наличии, и при отсутствии предметов церковной утвари. Появляется представление об архитектурном интерьере как о чем-то самостоятельном и автономном по отношению к другим видам искусства.
Прокопию Кесарийскому в описании Св. Софии вторит Павел Силен-циарий (563 г.): «Раковина апсиды как павлин с перьями с сотнями глаз. С золотой огромности свода разливается такой свет, что он затмевает взгляд:
это варварская и латинская помпа. Алтарь из золота опирается на колонны и базы из золота и золото прерывается только драгоценными камнями . Вечером такой свет отражается от предметов храма, что кажется, что там полночное солнце . Роскошная ночь улыбается как день и вновь является как рассвет. Матросам не нужен маяк, для них достаточно взглянуть на свет храма »39. По этому отрывку видно, что свет храма интерпретируется символически как «свет христианской религии», служащий ориентиром и маяком для язычников, бороздящих воды Средиземного моря.
В связи с этим вспоминается впечатление русских послов князя Владимира в IX в. от службы в Св. Софии в Царьграде. Следующими восторженными словами описывают послы богослужение в Греции: «И не знали были мы на земле, или на небе, нет на земле такого зрелища и красоты такой и не можем этого описать только то знаем там Бог с людьми пребывает и эта служба лучше всех»40. Послы ссылаются не на какие-то конкретные детали убранства храма или конкретные моменты службы, они остро почувствовали общее впечатление единства и неделимости происходящего: света, пения, блеска драгоценных мозаик, одним словом впечатление единства пространства, в котором они оказались.
Когда Феофан Грек приехал в Москву, Епифаний Премудрый в своем письме к другу Кириллу Тверскому (начало XV в.) рассказывал, что он попросил греческого живописца написать для него Софию Константинопольскую. Феофан сначала ответил: «Невозможно …ни тебе того получить, ни мне написать, но, впрочем, по твоему настоянию, я частично напишу тебе, и то это не часть, а сотая доля, от множества малость, но благодаря этому малому написанному нами изображению и остальное ты представишь и уразумеешь»41. То есть Феофан Грек предложил Епифанию отдельные изображенные им фрагменты интерпретировать как символ единого и цельного пространства храма. Переход от изображения целого к созданию символа целого был одним из способов передачи представления не столько об отдельных элементах, сколько о пространстве храма в целом42.
Таким образом, уже в VI в. в Византии появляется восприятие простран ства как некой неделимой сущно сти. И Византия в этом отношении опережает
Западную Европу, культура которой была основательно разрушена варварами и возрождалась, по существу вернувшись к «гомеровскому», «примитивному», первобытному пониманию как искусства, так и пространства. Вспомним гробницу Теодориха в Равенне (VI в.). Дело было не только в отсутствии нужных инженерных знаний и в наличии дешевой рабочей силы, но и в отсутствии представления о пространстве как о чем-то, имеющем самостоятельное значение. Для эпохи варварских королевств постройка — это прежде всего некое материальное тело, весомое и неподвижное, а не заключенное внутри него пространство.
Подводя итоги, повторим, что представление о постройке в первую очередь как о внутреннем пространстве созревает в раннехристианских базиликах. Это представление досталось в наследство Византии, как восприемнице традиций позднеантичной и раннехристианской культуры.
Как показывает в своей монографии М. Баксандалл43, в эпоху Возрождения постепенно произошел отход от прямой зависимости между стоимостью материалов, использованных для создания произведения искусства, и стоимостью самого произведения. Больше стало цениться мастерство художника, способного изобразить блеск золота чисто художественными средствами. Таким образом, блеск и сияние ценятся, но не как качества реальных драгоценных металлов или камней, но как свидетельства мастерства художника. В понимании гуманистов Ренессанса художник в какой-то мере становится равным Богу. Свет все больше и больше интерпретируется как явление не столько сакральное, сколько природное.
Леонардо да Винчи в трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие таким образом располагает фреску, чтобы распределение света и тени в ней как будто бы определялось имевшимся в трапезной реальным оконным проемом. Свет из явления метафизического превращается в явление физическое. Но и в качестве физического феномена он продолжает объединять пространство в единое целое: реальный оконный проем, сама трапезная и фреска неразрывно связаны падающим из окна светом в неделимое целое44.
В эпоху барокко свет будет восприниматься и как явление физическое, и как метафизическое, совмещая его понимание в Средние века и в эпоху Возрождения. Свет, исходящий от персонажей Рембрандта, большей частью метафизический. Свет в полотнах Веласкеса скорее физический. Свет у Вермеера и физический, и сакральный, как, впрочем, и свет, льющийся из-под куполов храмов барокко.
Таким образом, только на первый взгляд представления о красоте произведения искусства могут показаться идентичными в античности и в Средние века. Интерпретация света и понимание пространства тесно связаны. Представления о них и их связи кардинально менялись от античности к Средним векам. Только в культуре Византии пространство стало пониматься в первую очередь как наполненное божественным светом единое неделимое целое. Свет не только был символом трансцендентного для христианства, свет стал способом объединения пространства храма в единую сущность, воспринимавшуюся как символ присутствия Бога. Западная Европа пришла к этому пониманию в эпоху готики, передав традиции восприятия пространства как единого целого последующим эпохам.
Список литературы Свет и пространство в культуре и искусстве античности и Средневековья
- Аверинцев С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 404-425.
- Алексинский Д. П. Щит Ахилла // £У££1Т1Л. Сб. статей памяти Ю. В. Андреева / Ред. В. Ю. Зуев. СПб., 2000. С. 391-399.
- Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. М.: Наука, 1972. 286 с.
- Гомер. Илиада / Пер. Н. И. Гнедича. М.: Художественная литература, 1987. 384 с.
- Гомер. Одиссея / Пер. В. А. Жуковского. М.: Художественная литература, 1986. 270 с.
- Епифаний Премудрый. Выписано из послания иеромонаха Епифания, писавшего к некоему другу своему Кириллу // Мастера искусства об искусстве: в 7 т. Т. VI. М., 1969. С. 26-29.
- Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей: в 43 т. Т. 1. М.: ЯРК, 1997. 496 с.
- Лукиан. О доме // Архитектура античного мира: Материалы и документы по истории архитектуры / Сост. В. П. Зубов, Ф. А. Петровский. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1940. С. 157-160.
- Павсаний. Описание Эллады: в 2 т. М.: Ладомир, 1994. 364, 592 с.
- Панофский Э. Аббат Сюжер из Сен-Дени // Его же. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. С. 129-173.
- Панофский Э. Идеологические источники радиатора роллс-ройса // Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб.: Азбука, 2004. С. 263-272.
- Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб.: Азбука-классика, 2004. 336 с.
- Платон. Критий // Архитектура античного мира. М., 1940. С. 10-37.
- Прокопий Кесарийский. О постройках // История эстетики: в 5 т. Т. 1. М.: Искусство, 1962. С. 330-334.
- Седова О.В. Роль цвета и света в эпоху Европейского Средневековья // История: факты и символы. 2016. № 1 (6). С. 58-68.
- «Хождение игумена Даниила в Палестину по святым местам» (11061108) // Сахаров И. Путешествия русских людей в чужие земли. Изд. II. СПб., 1837. Ч. I. С. 9-21.
- Цицерон. Речь против Гая Верреса // Цицерон. Эстетика: Трактаты. Речи. Письма. М.: Искусство, 1994. С. 114-211.
- Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. / Под ред. М. Е. Грабаря-Пассека, М. Л. Гаспарова. М.: Наука, 1970. С. 288-300.
- Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб.: Азбука-классика, 2004. 111 с.
- Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб.: Алетейя, 2003. 256 с.
- BaxandallM. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style. Oxford: Oxford University Press, 2008. 182 p.
- Ventury L. History of art criticism. N. Y.: E. P. Dutton and Company, 1936. 345 p.