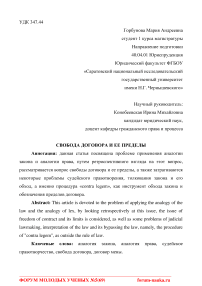Свобода договора и ее пределы
Автор: Горбунова М.А.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 5 (69), 2022 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблеме применения аналогии закона и аналогии права, путем ретроспективного взгляда на этот вопрос, рассматривается вопрос свободы договора и ее пределы, а также затрагиваются некоторые проблемы судейского правотворения, толкования закона и его обход, а именно процедура «contra legem», как инструмент обхода закона и обозначения пределов договора.
Аналогия закона, аналогия права, судейское правотворчество, свобода договора, договор мены
Короткий адрес: https://sciup.org/140293202
IDR: 140293202 | УДК: 347.44
Текст научной статьи Свобода договора и ее пределы
Свобода договора как один из важнейших принципов гражданского права является частным по отношению к более широкому принципу – свободе лица и автономии его воли1. Данный принцип закреплен в п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), где говорится, что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права по своей воле и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Это очень интересная тема в том смысле, что если рассмотреть ситуацию, в которой гражданин заключает договор исходя из принципа свободы воли и в своем интересе, но при этом нарушает интересы иных лиц, хотя сделка является правомерной. Вопрос в том, стоит ли в этом смысле ограничивать свободу договора, устанавливать ее пределы? Какой именно субъект будет управомочен устанавливать «пределы» договора? Нарушаются ли при этом нравственные начала гражданского права? На эти вопросы мы попытаемся ответить.
Законодатель в ст. 6 ГК РФ исходя из смысла содержания данной нормы закрепляет следующие положения, а именно, в случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона), а при невозможности использования аналогии закона права и обязанности определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, что называют аналогией права, при этом, требования добросовестности, разумности и справедливости являются безусловными2. Стоит отметить тот факт, что данный вопрос тесно связан с проблемами определенности права и вопросом о так называемом свободном судейском правотворении. Так, чтобы в отношениях был порядок нужна определенность и в этой позиции нельзя не согласиться с видным цивилистом Иосифом Алексеевичем Покровским, который писал: «одно из первых и самых существенных требований, которые предъявляются к праву развивающейся человеческой личностью, является требование определенности правовых норм. Каждый отдельный человек должен подчиняться праву, если он должен приспособлять свое поведение к его требованиям, то очевидно, что первым условием упорядоченной общественной жизни является определенность этих требований»1. Вместе с тем, однако, несмотря на то, каким бы совершенным не был закон на момент его принятия с течением времени он устаревает, в нем появляются пробелы, которые ранее были не выявлены, или которые возникли по мере образования новых общественных отношений, регулируемых этим законом. С этой точки зрения более разумным считается применение закона по аналогии или же применение аналогии права, или же путем судейского правотворения. Последнее называют процедурой «contra legem», что дословно означает обход закона2.
Анализ этой проблемы показывает нам, что возможность судейского правотворения прошла долгий и тернистый путь. Так, законодатель, долгое время противился этому, например, в Пруссии Фридрих Великий исходя из понимания о том, что только законодатель истинный творец закона воспретил судам каким-либо образом искажать его смысл, а при сомнениях повелел судам обращаться в особую комиссию (Указ от 14 апреля 1780 г.), что как мы понимаем не увенчалось успехом3
Впервые положение о том, что суд может применить аналогию закона или же в иных случаях аналогию права появилась во Всеобщем гражданском уложении Австрии (нем. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), так, § 7 говорит, что если случай не может быть решен ни на основании текста, ни на основании естественного смысла закона, то следует принять во внимание подобные, в законах определенно разрешенные, случаи, а также основания других родственных законов. Если вопрос все еще остается сомнительным, то он, по тщательным соображениям обстоятельств, должен быть решен на основании естественных принципов права1. Таким образом, мы видим, что судебное правотворчество является неизбежным, и причинами этого служат пробелы в законе, противоречия в законе, неясность и многозначность слов, терминов, используемых в формулировках основной мысли, естественное устаревание закона. Европейский законодатель со временем стал понимать это и как следствие принял как должное. Однако появляется вопросы следующего характера: как суды восполняют пробелы в законе? Как связана свобода договора и ее пределы с судейским правотворением?
В науке основными инструментами восполнения пробелов в законе являются: аналогия закона; аналогия права (здесь стоит отдельное внимание уделить методу Ф.К. фон Савиньи: индицирование из источников права общих понятий и их обратное дедуктивное применение к неурегулированным случаям); расширительное толкование действующих норм; свободный поиск, а именно, поиск оптимального с политико-правовых позиций правового решения (чистое правотворчество ad hoc)2. Данные инструменты необходимы, для устранения в законе противоречий и многозначительности, а пользоваться ими должны суды высших инстанций. До 2014 года, вплоть до своей ликвидации активно процедуру «contra legem» применял Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, после ликвидации данного судебного органа этой процедурой более активно стал пользоваться «новый» камертон всей судебной системы – Верховный Суд Российской Федерации. Вместе с тем, применяя данную процедуру возникают проблемы толкования. Стоит вопрос, может ли суд пойти настолько далеко, чтобы вовсе отступить от ясного и недвусмысленного текста нормы? На практике это происходит повсеместно, и как правило, суд использует следующие методы толкования: текстуализм, а именно, буквальное следование букве закона; системное толкование, суть которого заключается в согласованности нормы с общей системой; доктринально-догматическое толкование - толкование на основе закона и догматики; интенционалистическое (субъективно-телеологическое), основанное на попытке выявления истинной воли исторического законодателя; объективно-телеологическое (прагматическое, динамическое) толкование, смысл содержания которого заключается в том, что судья выделяет толкование, которое может выдержать текст, который в большей степени представляется суду разумным, справедливым, эффективным. Так, например, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации придерживался объективно -телеологического толкования, что можно сказать и о деятельности Судебной коллегии по экономическим спорам и Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, что касается европейских государств, то там объективно-телеологическое толкование применяется довольно активно, а связано это прежде всего с тем, что кодексы там не меняются столетиями. Суды, посредством данного метода толкования модифицируют диспозицию нормы, но нередко прямо идут против буквы закона.
Попробуем объяснить данное суждение на практике. По смыслу содержания п. 2 ст. 651 ГК РФ договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, т.е. по общему правилу договор аренды недвижимого имущества всегда подлежит государственной регистрации (исключения могут устанавливаться законом п. 2 ст. 609 ГК), таким образом, отсутствие государственной регистрации договора аренды здания или сооружения, заключенного на срок не менее одного года
(т.е. год и более), означает отсутствие договора (нет регистрации – нет договора). Однако Высший Арбитражный Суд в Постановлении Пленума от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре арены»1 в п. 14 разъяснил, исходя из смысла данного пункта следующее: в случае если стороны достигли соглашения в требуемой форме по всем существенным условиям договора аренды, который в соответствии с названным положением подлежит государственной регистрации, но не был зарегистрирован он все же порождает правовые последствия и признать данный договор ничтожным нельзя, т.к. все существенные условия договора аренды соблюдены и стороны выполняют возложенные на них обязанности и пользуются активно своими правами. Более детально эта позиция разъясняется в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»2, т.е., обобщенно можно сказать так, если стороны заключили договор аренды, на срок, превышающий один год и не зарегистрировали его, но при этом добросовестно выполняют условия договора, то данный договор можно признать состоявшимся и правила о договоре аренды применимы к нему, т.к. цель государственной регистрации договора аренды состоит в том, чтобы защитить интересны третьих лиц. При этом, арендатор, которому вещь передана по договору, подлежащему государственной регистрации, но не зарегистрированному, не может ссылаться на его сохранение при изменении собственника3. Фактически мы видим, что суд воспользовался процедурой «contra legem» и признал заключенным незарегистрированный договор аренды.
Далее, рассмотрим следующую ситуацию на примере договора мены. В ст. 567 ГК РФ установлено, что по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой. По сути все ясно, но, если рассмотреть ситуацию, в которой имеет место быть общая долевая собственность. Допустим, родственникам (родным сестрам, назовем их А и В) принадлежит двухкомнатная квартира, находящаяся у них в общей долевой собственности в соответствии со ст. 244 ГК РФ. При этом, если одна из сестер А. захотела обменять свою долю (одну из комнат) на иной объект недвижимого имущества, но другой сособственник В. противится этому и предлагает денежную компенсацию за долю в праве общей собственности, что не интересует собственника А. этой доли. Может ли собственник А. спокойно обменять свою долю в обход преимущественного права? Законодатель четко разъясняет эту ситуацию, а именно, руководствуясь п. 1 ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а п. 2 говорит, что участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных ст. 250 ГК РФ. Следует учитывать п. 4 данной нормы, где сказано, что уступка преимущественного права покупки доли не допускается, а также п. 5, где говорится, что правила, предусмотренные ст. 250 ГК РФ применяются также при отчуждении доли по договору мены. Основываясь на правовой позиции Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»1 в п. 2 которого говорится, что норма, определяющая права и обязанности сторон договора, является императивной, если она содержит явно выраженный запрет на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила. Из этого явно следует отрицательный ответ, т.е. А. не может «переступить» через преимущественное право покупки, принадлежащей ее сестре В. Однако, рассмотрев данную ситуацию, может ли у нас возникнуть вопрос относительно сложившихся правоотношений, ведь В. предлагает А. не эквивалентный договор мены, а денежную компенсацию. Так, сущность содержания договора мены состоит в том, что денежные отношения из них исключаются, а если они и предусмотрены, то допускаются, только если в соответствии с договором обмениваемые товары признаются неравноценными исходя из смысла содержания п. 2 ст. 568 ГК РФ, иное противоречит существу мены. А если в качестве такого эквивалента будет выступать индивидуально определенный объект (т.е., например, мы меняем долю в праве общей собственности, т.е. жилое помещение на равное жилое помещение). Стоит вопрос, как остальные собственники реализуют свое преимущественное право мены, если они не обладают эквивалентным объектом недвижимости? Законодатель, как и Высшие Суды этого не разъясняют. Однако, по нашему мнению, все же, преимущественное право, установленное в ст. 250 ГК РФ в пределах договора мены может действовать, если у сособственника есть эквивалентный объект, который он может предложить другому сособственнику, т.к. по сути, иное противоречит правовой сущности мены, и как следствие ограничивается свобода договора, т.е. ст. 250 ГК РФ установлены наглядные пределы свободы договора, ограничения интересов субъектов гражданского права. В этой связи вновь обратимся к мнению Иосифа Алексеевича Покровского, который пишет, что договор, как мы видели, по самому своему назначению есть способ регулирования отношений между частными лицами сообразно их индивидуальным интересам и потребностям1. Частный интерес в свободе договора является ведущим, так, Сергей Васильевич Сарбаш пишет, что желание в удовлетворении потребности человека в терминологической традиции гражданского права именуется интересом.
Интерес может быть имущественным или неимущественным1. Вместе с тем, если свобода договора формируется из интереса человека и автономии его воли, то в предложенном примере про преимущественное право мены интерес субъекта гражданского права ограничивается, как и ограничивается его свобода. Однако, если обратиться к п. 1 ст. 1 ГК РФ, где в качестве одного из принципов гражданского права выделяют принцип равенства гражданских правоотношений, прямо вытекающий из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, закрепленным в ст. 19 Конституции РФ, можем ли мы утверждать, что данный принцип равенства в отношении сособственника, который хотел обменять свою долю нарушен? Определенно нет, т.к. в противном случае, будут нарушены права другого сособственника. Принцип равенства проявляется не только в статике, но и в динамике гражданских правоотношений. В известном смысле, как пишет Сергей Васильевич Сарбаш, принцип равенства дает дорогу другому принципу – принципу свободы договора2. В этой связи мы можем говорить о таком явлении как пограничность права и вмешательство суда для разрешения этого вопроса является необходимым. Так, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2011 г. № 17389/103 исходя из смысла ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора предполагает добросовестность действий сторон, разумность и справедливость его условий, в частности их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения. Свобода договора, подразумевая, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, не означает, что при заключении договора они могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных ГК РФ. В данном случае применено объективно-теологическое толкование, по сути все сводится к одному, а именно, стороны в гражданских правоотношениях равны друг перед другом, действует безусловная свобода договора, но вместе с тем, даже при наличии этой безусловной свободы договора стороны должны учитывать позиции третьих лиц и их интересы, в ином случае это нарушает права третьих лиц.
Из этого следует, что свобода договора не безгранична, она должна существовать, вместе с тем, законодатель не может предусмотреть все случаи, когда необходимо ограничивать свободу договора в этом контексте он корреспондирует свои права как законодателя суду. Данная мысль находит явное подтверждение в одном из старейших гражданских кодексов – Всеобщее гражданское уложение Австрии, вступившее в силу в 1812 году и действующее по настоящий момент, где обозначено следующее: «Если юридическое дело не может быть решено ни из слов, ни из естественного смысла закона, то должно быть обращено внимание на подобные дела, разрешенные в законах, и на основания других родственных законов. Если судебное дело остается сомнительным; поэтому такие решения должны приниматься на основе естественных принципов права в отношении тщательно собранных и зрело рассмотренных обстоятельств»1.
Выделяют следующие цели ограничения договора: защита публичного интереса; защита основ нравственности; защита интересов третьих лиц; обеспечение справедливости договорных условий. Идея о том, что свобода договора является опровержимой презумпцией развивается в Постановлении Конституционного Суда РФ2, а Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил, что принцип свободы договора является фундаментальным частноправовым принципом, основополагающим началом для организации современного рыночного оборота, его ограничения могут быть допущены лишь в крайних случаях в целях защиты интересов и экономических ожиданий третьих слабой стороны договора (потребителей), основ правопорядка или нравственности или интересов общества в целом1.
Таким образом, мы видим, что главой 1 ГК РФ предусмотрены общие положения, принципы гражданского права, среди которых выделяют свободу договора, вместе с тем, возникают ситуации, когда законодатель прямо не предусмотрел норм, регулирующих те или иные гражданские правоотношения, однако ссылаясь на ст. 6 ГК РФ разрешил пользоваться аналогией закона или в иных случаях аналогией права. Мы безусловно считаем, что данная процедура «contra legem» необходима, т.к. законодатель не может предусмотреть все пробелы и до бесконечности их восполнять из этого следует, что именно суд, но не любой, а Высший Суд может и должен пользоваться этой процедурой, в целях выявления и восполнения пробелов в праве. Вместе с тем, нужно помнить о том, что интенсивный «contra legem» дестабилизирует правую определенность, а это не менее важно, чем справедливость конкретных решений. Так, на примере разъяснения свободы договора мы показали действие двух моделей ограничения свободы договора, а именно, «ex ante» контроль, т.е. создание императивной нормы, либо же ситуации, когда суд может позволить себе ограничительно толковать, допустим, прямо выраженную императивность или диспозитивность2 и «ex post» контроль, т.е. оценка условий договора судами3.
Список литературы Свобода договора и ее пределы
- Всеобщее гражданское уложение Австрии (нем. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). URL: https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/7 (дата обращения 17.04.2022).
- Гражданский кодекс Российской Федерации URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 17.04.2022).
- Е.В. Тимошин Методология судебного толкования: критический анализ реалистического подхода // Труды Института государства и права РАН. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-sudebnogo-tolkovaniya-kriticheskiy-analiz-realisticheskogo-podhoda (дата обращения 17.04.2022);.
- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160178/8396ddde159ff25098888e3ceaf8e95777bb618a/ (дата обращения 17.04.2022).
- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 141.
- Конституционный Суд РФ в Постановление № 2-П от 28 января 2010 г. признал права владения пользования и распоряжения имуществом, а также свободу предпринимательской деятельности и свободу договора в силу статьи 55 (части 3) Конституции Российской Федерации могут быть ограничены федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
- Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1-16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. М-Логос. М. 2020. С. 83.
- Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права «XV. Обязательства из договоров. Проблема договорной свободы». Издательство Статут. М. 2020.
- Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Издательство Статут. М. 2020. С. 50.
- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» URL: https://base.garant.ru/70106590/ (дата обращения 17.04.2022).
- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 ноября 2013 г. № 9738/13
- Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2011 г. № 17389/10 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/58103298/ (дата обращения 17.04.2022).
- Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» URL: http://www.arbitr.ru/arxiv/post_plenum/106573.html (дата обращения 17.04.2022)
- Рыбалов А.О. К теории относительности незарегистрированной аренды. URL:https://zakon.ru/blog/2020/06/09/k_teorii_otnositelnosti_nezaregistrirovannoj_arendy (дата обращения 17.04.2022).
- Сарбаш С.В. Институт прецедента URL: https://precedent.hse.ru/news/131026124.html (Дата обращения: 01.05.2022 г.)