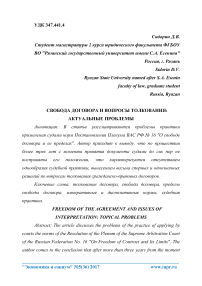Свобода договора и вопросы толкования: актуальные проблемы
Автор: Сидорин Д.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Актуальные вопросы политики и права
Статья в выпуске: 5-2 (36), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы практики применения судами норм Постановления Пленума ВАС РФ № 16 "О свободе договора и ее пределах". Автор приходит к выводу, что по прошествии более трех лет с момента принятия документа судами до сих пор не восприняты его положения, что характеризуется отсутствием однообразия судебной практики, вынесением весьма спорных и однозначных решений по вопросам толкования гражданско-правовых договоров.
Толкование договора, свобода договора, пределы свободы договора, императивные и диспозитивные нормы, судебная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/140123878
IDR: 140123878
Текст научной статьи Свобода договора и вопросы толкования: актуальные проблемы
За несколько месяцев до упразднения Высшего Арбитражного Суда Пленумом последнего было издано Постановление №16, ставшее чуть ли не самым дискуссионным в юридической среде. Предполагалось, что документ изменит сложившийся в практике судов подход к толкованию норм договорного права об императивности положения, не содержащего оговорку о возможности согласования сторонами иного. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 161 (далее – Постановление) обращено к нормам, определяющим права и обязанности сторон договора. Предложенный подход означает, что одна и та же норма в разных ситуациях может быть истолкована по-разному: как императивная или как диспозитивная. По прошествии трех лет с момента принятия Постановления судебная практика в вопросах толкования договоров до сих пор далека от единообразия: суды толкуют Постановление и нормы спорных договоров каждый по-своему.
Рассмотрим пункты 1–4 Постановления, поскольку вопрос квалификации правовых норм без определенного статуса, вероятно, будет самым сложным при обращении к данному документу. Статистика свидетельствует, что практика применения п. 1–4 формируется окружными судами, что тоже не слишком способствует ее единообразию. Разъяснения Пленума воспринимались судами постепенно и своеобразно. Лишь спустя больше года после принятия документа его нормы были впервые упомянуты в определении ВС РФ от 03.11.2015 № 305-ЭС15-6784 по делу № А40-53452/2014. В течение долгого времени это был единственный акт ВС РФ, которым могли руководствоваться нижестоящие суды при применении ключевых положений Постановления № 16. При этом, в течение полутора месяцев после опубликования Определения ВС, на него семь раз сослались АС Московского округа и Девятый ААС. Сегодня же Портал судебных и нормативных актов РФ sudact.ru насчитывает более восьми тысяч документов Верховного Суда, и более ста тысяч документов Арбитражных судов, ссылающихся при решении споров на рассматриваемое Постановление № 16.
Итак, авторы Постановления утвердили такое основополагающее правило толкования договора: если норма не имеет известных признаков императивности (явный законодательный запрет) или диспозитивности (возможность согласовать иное), она должна толковаться исходя из ее существа и целей законодательного регулирования. Предполагается, что норма, не имеющая указанных признаков (неопределенная), диспозитивна. Это предположение может быть опровергнуто, если исходя из целей законодательного регулирования императивность необходима для защиты особо значимых интересов (слабой стороны, третьих лиц, публичных интересов) или недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон. Суд обязан мотивировать, почему он посчитал неопределенную норму императивной.
Пункт 1 Постановления № 16 нередко используется судами как вводная конструкция мотивировочной части судебного акта и не несет смысловой нагрузки. Так, сославшись на Постановление № 16, суд поддержал позицию ВАС РФ, высказанную о цели требований гражданского законодательства. В данном случае установление периода выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора преследует своей целью не допустить неопределенность в правоотношениях сторон. Это позволило разрешить спор между заказчиком и подрядчиком, принявшим работы, о несогласовании сроков.2 Суд посчитал, что принятие работ заказчиком устраняет неопределенность в отношении срока производства работ, поэтому они должны считаться согласованными, а договор – заключенным (постановление АС Поволжского округа от 11.08.2015 № Ф06-26168/2015 по делу № А12-40334/2014).
Однако иногда оно применяется по назначению – для определения цели правовой нормы. В другом деле вышестоящая инстанция поддержала выводы нижестоящих судов, назвавших целью ст. 330 ГК РФ уменьшение неблагоприятных последствий, вызванных нарушением обязательств. Суды установили, что расторжение договора аренды по инициативе любой из сторон во внесудебном порядке путем оформления соответствующего соглашения не является нарушением обязательств, поэтому сторона такого договора не должна оплачивать штраф за расторжение, который предусмотрен в договоре (постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.11.2014 № Ф04-10913/2014 по делу № А27-2023/2014).
В другом случае было определено, что заем, предоставленный региональным органом, предполагал поддержку организации агропромышленного комплекса, но на условиях возвратности, платности, срочности пользования заемными средствами по сниженной ставке на ограниченный верхним пределом срок. В проекте мирового соглашения срок возврата был отложен почти на 10 лет, суды посчитали, что это не отвечает целям региональной программы, и отказали в утверждении мирового соглашения (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.09.2014 по делу № А78-172/2014).
Пункт 2 Постановления № 16 Данный пункт изредка используется для ограничительного толкования императивного запрета. Вероятно, когда целевое толкование станет широко распространено, будет развиваться и ограничительное. Пока же для обоснования императивности норм чаще обращаются к абз. 1 п. 2 Постановления № 16. К примеру, диспозитивность ст. 711 ГК РФ была обоснована тем, что она не содержит явно выраженного запрета на установление соглашением сторон подряда условия о том, что заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы и передачи исполнительной документации (постановление АС Дальневосточного округа от 18.09.2014 № Ф03-3812/2014 по делу № А73-12137/2013). В другом судебном акте отмечено, что закон не запрещает сторонам закреплять в договоре условие об отсрочке оплаты выполненных работ до окончательной приемки результата конечным заказчиком (постановление АС Московского округа от 21.08.2015 № Ф05-9679/2015 по делу № А40-97541/14). Ранее московский арбитраж, также сославшись на абз. 1 п. 2 Постановления № 16, указал на диспозитивность ст. 429 ГК РФ и возможность включения в предварительный договор условий о применении мер гражданско-правовой ответственности в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по нему (постановление АС Московского округа от 17.12.2014 № Ф05-14681/2014 по делу № А40-124634/13). Применяя абз. 4 п. 2, суд посчитал, что п. 2 ст. 310 ГК РФ запрещает непредпринимателю в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Соответствующее положение было признано недействительным, поскольку в данном случае сторона не являлась слабой стороной договора аренды (постановление АС Поволжского округа от 03.11.2015 № Ф06-1815/2015 по делу № А57-12528/2014).
Нельзя сказать, что суды плохо обосновывают признание норм диспозитивными. Например, ст. 1010 ГК РФ была расценена как диспозитивная из-за отсутствия в ней явного запрета на расторжение по этому же основанию агентского договора, заключенного на определенный срок (постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 02.06.2014 по делу № А25-1692/2013, АС Московского округа от 21.09.2015 № Ф05-10812/2015 по делу № А40-149290/14). Схожую мотивировку в отношении п. 2 ст. 621 ГК РФ использовал уральский арбитраж (постановление АС Уральского округа от 10.08.2015 № Ф09-4420/15 по делу № А07-18675/2014). В целом качество обоснования схоже со многими судебными актами, где нормы права толкуются императивно.
Пункт 4 затрагивает проблему недействительности условий договора, противоречащих норме закона. Условие договора не может быть признано недействительным по ст. 168 ГК РФ, если оно отличается от диспозитивной нормы. Это разъяснение стало единственным из всех рассматриваемых, которое применила экономическая коллегия ВС РФ, после чего суды стали очень охотно обращаться к этой позиции. Ссылаясь на п. 4 Постановления № 16, ВС РФ подтвердил приверженность позиции ВАС РФ о диспозитивности норм договорного права (определение ВС РФ от 03.11.2015 № 305-ЭС15-6784 по делу № А40-53452/2014). ГК РФ допускает любые закрепленные в законе или договоре способы обеспечения обязательств. Поэтому нет оснований для признания недействительными положений договора, предоставляющих арендодателю право удерживать задаток в качестве штрафа за досрочное расторжение договора, направленного на обеспечение исполнения арендатором условий договора и гарантирующего законные интересы арендодателя при его исполнении. Схожая идея в стиле «разрешено все, что не запрещено» возникла в споре о признании недействительным условия договора, противоречащего ст. 710 ГК РФ. Логика суда была такова: «…норма пункта 1 указанной статьи не содержит оговорку о ее природе, однако пункт 2 указывает на допустимость одного из вариантов (наиболее типичного) отступления от норм пункта 1 об экономии подрядчика, а именно – распределение образовавшейся экономии между сторонами. В то же время системное толкование не оставляет сомнений в том, что стороны могут согласовывать и иные варианты девиации от установленных в пункте 1 правил – например, не распределение экономии между сторонами, а уменьшение цены на всю величину обнаруженной экономии. <…> Таким образом, оспариваемые Обществом положения контракта и соглашения соответствуют положениям статьи 710 Кодекса и не могут быть признаны недействительными на основании статей 10 и 168 ГК РФ» (постановление АС Северо-Западного округа от 04.09.2015 по делу № А56-40587/2014).
Интересным представляется следующий случай из юридической практики, наглядно демонстрирующий, что нормы Постановления № 16 еще не до конца восприняты судами: процесс по иску участника долевого строительства к застройщику о взыскании неустойки за нарушение срока передачи квартиры. Законом об участии в долевом строительстве (ч. 2 ст. 6) предусмотрена ответственность застройщика за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в виде неустойки в размере 1/150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Поимо этого застройщик в своем договоре прописал ответственность за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию. Пункт 8.3 договора установил правило: «При нарушении Застройщиком сроков ввода в эксплуатацию Дома с учетом п. 5.1.1., а также иных обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Застройщик уплачивает Участнику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от суммы внесенных Участником денежных средств за каждый день просрочки». Из этого пункта ясно видно, что застройщик взял на себя дополнительную ответственность за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию.3
Суд в решении по делу сделал весьма спорный вывод: «Взыскание же с ответчика в пользу истца неустойки за нарушение срока ввода дома в эксплуатацию исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России от суммы внесенных Участником денежных средств за каждый день просрочки за тот же период, за который судом взыскивается с ответчика неустойка за нарушение срока передачи квартиры, приведет к двойной мере ответственности застройщика, что недопустимо. При этом суд учитывает, что нарушение срока ввода дома в эксплуатацию, само по себе, прав истца не нарушает. В данном случае права истца нарушают действия ответчика по несвоевременной передаче истцу объекта участия в долевом строительстве, за что судом и взыскана предусмотренная законом неустойка».
По сути, объекта нарушения в данном споре два: нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию и нарушение срока передачи объекта по договору. Неясно, прежде всего, почему суд говорит о двойной ответственности застройщика. Если допустить, что ответственность за одно и то же нарушение, действительно, двойная, то докуда распространяется свобода договора и можно ли договором установить такую ответственность?
Смысл свободы договора именно в том, что стороны по своей воле договорились о двойной ответственности, и суд не вправе вмешиваться в их волю. Каких-либо публичных интересов и интересов третьих лиц данное соглашение не затрагивает. Поэтому такой вывод суда непонятен. Что касается формулировки «само по себе не нарушает прав истца» - вероятно, суд упустил из внимания, что, все, что установлено договором (даже то, что не предусмотрено законом) должно соблюдаться сторонами, а несоблюдение условий договора уже само по себе нарушает права истца. Обратное означало бы, что любые не предусмотренные законом, а лишь urisdikcii (дата обращения: 30.05.2017)
предусмотренные договором, права стороны лишались бы судебной защиты, что просто убивало суть свободы договора.
Приведенный пример - один из сотен спорных судебных решений, касающихся толкования договора и принятых на основании рассмотренного выше Постановления Пленума ВАС РФ №16 "О свободе договора и ее пределах". Хочется надеяться, что хотя бы по прошествии еще нескольких лет судебная практика в данной сфере придет к однообразию, что, в то же время, представляется весьма сложным в связи с неоднозначностью норм самого Постановления. Возможно, такое положение дел будет учтено Верховным Судом РФ при подготовке очередного разъяснения.
Список литературы Свобода договора и вопросы толкования: актуальные проблемы
- Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах"//СПС КонсультантПлюс
- Где пределы у свободы договора?//Юрист компании URL: https://www.lawyercom.ru/article/20722-gde-predely-u-svobody-dogovora (дата обращения: 30.05.2017)
- Панков К. Свобода договора: как ее понимают судьи общей юрисдикции//Zakon.ru. Первая социальная сеть для юристов URL: https://zakon.ru/discussion/2014/11/06/svoboda_dogovora_kak_ee_ponimayut_sudi_obshhej_yurisdikcii (дата обращения: 30.05.2017)