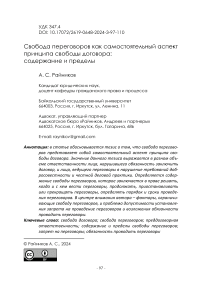Свобода переговоров как самостоятельный аспект принципа свободы договора: содержание и пределы
Автор: Райников А. С.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Частноправовые науки
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается тезис о том, что свобода переговоров представляет собой самостоятельный аспект принципа свободы договора. Значение данного тезиса выражается в разном объеме ответственности лица, нарушившего обязанность заключить договор, и лица, ведущего переговоры в нарушение требований добросовестности и честной деловой практики. Определяется содержание свободы переговоров, которое заключается в праве решать, когда и с кем вести переговоры, продолжать, приостанавливать или прекращать переговоры, определять порядок и сроки проведения переговоров. В центре внимания автора - факторы, ограничивающие свободу переговоров, и проблема допустимости установления запрета на проведение переговоров и возложения обязанности проводить переговоры.
Свобода договора, свобода переговоров, преддоговорная ответственность, содержание и пределы свободы переговоров, запрет на переговоры, обязанность проводить переговоры
Короткий адрес: https://sciup.org/147244127
IDR: 147244127 | УДК: 347.4 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-3-97-110
Текст научной статьи Свобода переговоров как самостоятельный аспект принципа свободы договора: содержание и пределы
Основные начала гражданского права, к числу которых относится прин‐ цип свободы договора, находятся в фокусе внимания цивилистов уже не пер‐ вое столетие. Вокруг принципов сложились полноценные теории (подчас кон‐ курирующие); без описания основных начал не обходится ни один учебник по гражданскому праву и комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе‐ дерации1 (далее – ГК РФ). Но право подвижно, и вместе с трансформацией по‐ литико‐правовых и доктринальных представлений о тех или иных институтах подвергаются изменениям и устоявшиеся подходы к принципам. В ряде случаев
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ результатом этого процесса становится расширение сферы действия прин‐ ципа, открывание таких его аспектов, которые ранее особым образом не вы‐ делялись.
Нечто подобное происходит сейчас с принципом свободы договора. При‐ нято считать, что она проявляет себя в трех аспектах: 1) как свобода принятия решения о вступлении в договорные отношения (заключении договора); 2) сво‐ бода определения правовой природы планируемого к заключению договора; 3) свобода определения содержания (условий) договора2. Перечисленные ас‐ пекты свободы договора базируются на буквальном прочтении статьи 421 ГК РФ, которая не охватывает собой еще одно проявление упомянутого прин‐ ципа – свободу переговоров о заключении контракта, закрепляемую пунктом 1 статьи 434.1 ГК РФ. В соответствии с ним «если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и юридические лица свободны в проведении пере‐ говоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто».
ГК РФ воспроизвел положения, присутствующие в многочисленных ак‐ тах международной унификации частного права. Так, пункт 1 статьи 2.1.15 Принципов международных коммерческих договоров (Принципов УНИДРУА) предусматривает, что «сторона свободна проводить переговоры и не несет от‐ ветственности за то, что соглашение не достигнуто»3. Несколько отличающе‐ еся текстуально, но идентичное по содержанию регулирование приводится в пункте 1 статьи 2:301 Принципов европейского договорного права4 и пункте 1 статьи II‐3:301 Модельных правил европейского частного права5. О праве сто‐ рон проводить переговоры «с целью заключения договора без какой‐либо ответственности за любой случай, если намеченный к заключению договор все‐таки не будет заключен» говорится и в пункте 1 статьи 6 Кодекса европей‐ ского договорного права6.
Соотношение свободы переговоров со свободой вступления в договорные отношения
Любые преддоговорные контакты сопровождаются риском «провала» переговоров. Возможность подобного исхода обусловлена различными причи‐ нами. Среди них – объективная невозможность точного прогнозирования буду‐ щего, здоровый оппортунизм, который выражается в естественном стремлении субъекта к обеспечению собственного интереса, не всегда совпадающего с ин‐ тересом другой стороны7, и т.д. Очевидность перечисленных факторов и при‐ вела законодателя к указанию на то, что стороны не отвечают друг перед другом за недостижение соглашения. Данное правило высвобождает переговорную энергию участников гражданского оборота, способствуя ее приложению к со‐ вершению актов товарообмена. Поэтому, несмотря на внешнюю близость к сво‐ боде принятия решения о заключении контракта, свобода переговоров не свя‐ зана с наличием либо отсутствием обязанности вступить в договор и относится лишь к простору выбора негоциантом8 модели поведения в переговорах, не выходящей за пределы допустимого. В случае нарушения таких пределов пострадавшая сторона вправе требовать возмещения причиненных этим убыт‐ ков, но не понуждения неисправного визави к заключению контракта9.
Отсюда и различия в ответственности, наступающей вследствие непра‐ вомерного уклонения от вступления в договорные отношения, в основе кото‐ рой лежит неисполнение обязанности заключить договор (абз. 2 п. 4 ст. 445 ГК РФ), и ответственности за нарушения, допущенные при проведении пере‐ говоров (п. 3 ст. 434.1 ГК РФ). В первом случае пострадавшая сторона вправе требовать возмещения убытков, исходя из того, что причиталось ей по дого‐ вору (защиты так называемого позитивного интереса); во втором – только убытков, имеющих целью вернуть пострадавшего в положение, в котором он находился до момента нарушения, допущенного другой стороной (защиты негативного интереса)10.
Содержание права на проведение переговоров
Свобода переговоров заключается в возможности решать: 1) когда и с кем вести переговоры; 2) продолжать, приостанавливать или прекращать переговоры; 3) определять порядок и сроки проведения переговоров11.
Право решать, когда вести переговоры , означает возможность выби‐ рать наиболее подходящий момент для инициации переговорного процесса. Эта опция ценна тем, что позволяет участникам оборота учитывать наиболее благоприятную для совершения сделки рыночную конъюнктуру, а также соб‐ ственные потребности в приобретении тех или иных благ.
Свобода выбора визави по переговорам открывает перед стороной не‐ ограниченный круг потенциальных контрагентов, а вместе с ним и возмож‐ ность установления критериев отбора тех, с кем можно (или нужно) заключить сделку. Это крайне важный аспект свободы переговоров, позволяющий найти лучшего партнера и отсечь партнера нежелательного. Свобода решать, с кем вступать в переговоры, означает, что субъекту не может быть поставлен в упрек факт ведения параллельных переговоров и навязаны условия понудить контрагента к заключению контракта и затем требовать исполнения и (или) убытков в случае неисполнения было бы можно, а претендовать на компенсацию неполученного вслед‐ ствие неправомерного уклонения от заключения договора нельзя. Подобный подход стимули‐ ровал бы кредитора к обращению в суд с требованием о понуждении к заключению контракта лишь для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность предъявить еще один иск – о возмеще‐ нии убытков по данному договору, что не может быть оправдано ни с точки зрения процессу‐ альной экономии, ни с точки зрения принципа обеспечения восстановления нарушенных прав (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Однако судебная практика по данному вопросу неоднородна. Так, в одном из определений Верховный Суд РФ высказался в пользу ограничения размера ответственности лица, нарушившего обязанность заключить договор, лишь убытками, которые вызваны самим фактом уклонения от заключения основного договора (Определение СКЭС ВС РФ от 18 дек. 2018 г. № 305‐ЭС18‐12143 по делу № А40‐113011/2017). Некоторые суды восприняли эту пози‐ цию таким образом, что защите подлежит лишь негативный интерес (см., например, Постанов‐ ление Арбитражного суда Западно‐Сибирского округа от 11 окт. 2021 г. по делу № А75‐ 19971/2020; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30 сент. 2022 г. № 07АП‐8060/2022 по делу № А03‐959/2022). Но в практике (причем как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции) представлены и дела, где правоприменитель вставал на за‐ щиту позитивного интереса кредитора (в качестве примера – Постановление Арбитражного суда Северо‐Кавказского округа от 20 нояб. 2019 г. № Ф08‐10153/2019 по делу № А32‐47213/ 2018; Апелляционное определение Санкт‐Петербургского городского суда от 18 окт. 2017 г. № 33‐16222/2017 по делу № 2‐460/2017).
11 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА / пер. с англ. А. С. Комарова. Офиц. коммент. к ст. 2.1.15. URL: document/cons_doc_LAW_14121/.
эксклюзивности. Ограничение этой свободы возможно по соглашению о по‐ рядке ведения переговоров, но лишь при соблюдении ряда условий, анализ которых не входит в цели данной статьи.
Отсутствие связи между фактом вступления в переговоры и обязанно‐ стью заключить договор предопределяет свободу в принятии решения о поддержании переговорного процесса как такового . Утрата интереса к за‐ ключению договора, обнаружение более выгодного предложения, мотивы личного характера – все это может породить желание выйти из переговоров, и правопорядок рассматривает такой выход как акт правомерный. Более того, с точки зрения тактики ведения переговоров нормальным явлением выступает давление на другую сторону угрозой отказа от продолжения пере‐ говоров или их приостановление с целью склонить потенциального контр‐ агента к принятию тех или иных условий будущей сделки12. Установление за‐ прета на подобные приемы несовместимо с правом негоцианта выговаривать себе необходимые преимущества, а значит – и с понятием тор‐ говли (в широком смысле этого слова).
Возможность определять порядок и сроки проведения переговоров позволяет адаптировать их к нюансам конкретной сделки, особенностям по‐ тенциальных контрагентов и специфике рынка. Так, стороны, находящиеся на значительном пространственном удалении, с высокой степенью вероят‐ ности предпочтут дистанционное обсуждение условий будущего контракта, в то время как согласование продажи подержанного дивана или холодиль‐ ника между соседями, как правило, не обходится без использования режима совместного присутствия. Если речь идет о простейшей сделке, то ее заклю‐ чение может стать делом нескольких минут. Если же структурируется много‐ миллионный инвестиционный проект, то обсуждение условий контракта за‐ нимает недели, а то и месяцы, ход переговоров нередко оформляется протоколами, а порядок – меморандумами о намерениях, соглашениями о порядке ведения переговоров и соглашениями о неразглашении. Простран‐ ство для маневра в этих вопросах является неотъемлемой составляющей сво‐ боды переговоров.
Ограничение свободы переговоров нормами позитивного права
Закрепление права свободно вести переговоры сопровождается оговор‐ кой о том, что иное может быть предусмотрено законом или договором.
Включение в перечень нормативных правовых актов, охватываемых по‐ нятием гражданского законодательства, лишь ГК РФ и принятых в соответ‐ ствии с ним иных федеральных законов (п. 2 ст. 3 ГК РФ), по общему правилу, исключает возможность ограничения свободы переговоров указами Прези‐ дента РФ и постановлениями Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК РФ), а также нор‐ мативными актами министерств и ведомств (п. 7 ст. 3 ГК РФ). Но если закон делегирует правотворческую компетенцию по регламентации переговоров иным органам, акты таких органов становятся источником регулирования прав и обязанностей негоциантов. Примером подобного делегирования является наделение Правительства РФ полномочием устанавливать перечень и спо‐ собы доведения информации до потребителя (п. 1 ст. 10 Закона РФ от 7 фев‐ раля 1992 г. № 2300‐1 «О защите прав потребителей»). Принятые во исполне‐ ние данной нормы Правила продажи товаров по договору розничной купли‐ продажи13 предусматривают соответствующие информационные обязанности продавца в переговорах с покупателем.
Нормативное регулирование переговоров обычно носит фрагментар‐ ный характер, затрагивая аспекты преддоговорного взаимодействия, которые правопорядок считает значимыми. Среди них прежде всего обязанности по предоставлению полной и достоверной информации, которая, в силу харак‐ тера договора, должна быть доведена до сведения другой стороны. Наиболее детальное регулирование таких обязанностей свойственно отношениям с уча‐ стием потребителей. Но в ряде случаев законодатель прибегает к подробной регламентации процесса переговоров, что характерно, например, для заклю‐ чения договоров по результатам конкурентных процедур. Наряду с общими правилами о торгах (ст. 447–449.1 ГК РФ) здесь действует множество отдель‐ ных законов и принятых на их основании подзаконных актов.
Свобода переговоров лимитируется и правовыми обычаями (ст. 5 ГК РФ). Указание в пункте 1 статьи 434.1 ГК РФ на возможность ее ограничения законом или договором не парализует действие обычая как субсидиарного источника позитивного права, дополняющего своим содержанием нормы, установленные в традиционных источниках. Формальным основанием данного вывода могут служить предписания абзаца 1 статьи 309 ГК РФ, согласно которому обязатель‐ ства исполняются «в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требовани‐ ями». Даже отрицание обязательственной природы отношения, возникающего из вступления в переговоры14, оставляет пространство обычаю как фактору, ко‐ торый учитывается при оценке поведения лица на соответствие требованиям добросовестности15. А ей в переговорах отводится особая роль.
И пусть значение обычаев в регулировании частных отношений неуклонно снижается, игнорировать их при определении границ свободы пе‐ реговоров не следует. В противном случае возрастает риск ошибочных тракто‐ вок. Например, систематический отказ стороны от участия в совещаниях по раз‐ работке договора, назначаемых на субботу, если выбор этого дня не обусловлен разумными причинами, едва ли может рассматриваться как продолжение пе‐ реговоров при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной. Это связано с тем, что, согласно принятому в России обычаю (законом это не предусмотрено), суббота признается нерабочим днем16.
Регулирование переговоров о заключении того или иного договора спе‐ циальными нормами не исключает применения к отношениям сторон общих правил статьи 434.1 ГК РФ. Наличие подобного регулирования означает лишь, что права и обязанности негоциантов выводятся не из дополняющей функции принципа добросовестности, а из обычной нормы. Так, непринятие участни‐ ком переговоров о заключении договора поставки мер по согласованию вы‐ зывающих разногласия условий или неуведомление другой стороны об отказе от заключения договора в предусмотренный пунктом 1 статьи 507 ГК РФ срок позволяют требовать возмещения убытков. Разъяснения высших судебных инстанций о составе этих убытков (п. 6 Постановления Пленума Высшего Ар‐ битражного Суда РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о до‐ говоре поставки») соответствуют положениям абзаца 2 пункта 3 статьи 434.1 ГК РФ, посвященного составу убытков, возмещаемых при ненадлежащем по‐ ведении в переговорах.
Судебная практика находит место применению положений комменти‐ руемой статьи и в отношении переговоров, урегулированных самым деталь‐ ным образом. Например, противоречивость содержащейся в аукционной до‐ кументации информации наряду с несовершением заказчиком действий по извещению участника торгов о недостатках документов, предоставленных последним на основании такой информации, признается нарушением требо‐ ваний статьи 434.1 ГК РФ о проведении переговоров17.
Но в случае несоответствия общих положений комментируемой статьи специальным нормам, регулирующим порядок проведения переговоров, при‐ оритет отдается специальным нормам. Так, последствием предоставления другой стороне неполной или недостоверной информации на преддоговор‐ ном этапе, по общему правилу, является необходимость возмещения причи‐ ненных этим убытков (п. 3 ст. 434.1 ГК РФ). Однако законодательство в сфере государственных и муниципальных закупок предусматривает особые послед‐ ствия систематического нарушения поставщиком требований к заявке на уча‐ стие в закупке (в том числе в части требований о предоставлении информации заказчику). Эти последствия выражаются в применении к поставщику штрафной санкции в виде перечисления внесенных им для обеспечения участия в закупке денежных средств в соответствующий бюджет (ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‐ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Присутствие нормативного регулирования не умаляет, но подчерки‐ вает роль частной инициативы в ограничении свободы переговоров. Она проявляется в заключении преддоговорных соглашений. Интерес к ним, как правило, продиктован стремлением негоциантов охватить аспекты перего‐ ворного процесса, регламентация которых при помощи правовых норм с уче‐ том многообразия жизненных ситуаций является невозможной или нецеле‐ сообразной.
Запрет на переговоры
Понимание переговоров как процесса достижения сторонами консенсуса по существенным условиям договора и облечения этого консенсуса в надлежа‐ щую форму означает, что запрет на переговоры равносилен запрету заключать договор. Подобные ограничения чаще всего накладываются соглашением и выражаются в принятии негоциантами обязательства не вести параллельные переговоры.
Однако запрет на проведение переговоров может основываться и на си‐ стемном толковании норм позитивного права. Так, переговоры о заключении контракта, нарушающего требования уголовного законодательства (договоры о продаже ребенка, найме киллера и т.п.), означают приготовление к преступ‐ лению и запрещены под страхом привлечения к уголовной ответственности (ст. 30 УК РФ18).
Не столь очевидной кажется необходимость констатации аналогичного запрета в отношении договоров, которые не характеризуются экстремальной степенью общественной опасности, но преследуют противоправную цель – к примеру, обход закона. Тем не менее переговоры о заключении подобных контрактов не должны защищаться правопорядком. В ином случае наруша‐ ется требование пункта 4 статьи 1 ГК РФ, согласно которому «никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного пове‐ дения». Странно было бы санкционировать взыскание убытков за недобросо‐ вестность в переговорах, которые изначально ведутся против доброй совести или требований закона.
Возложение обязанности проводить переговоры
В контексте общего понятия переговоров ограничение свободы приня‐ тия решения об участии в них означает необходимость совершения негоциан‐ том действий по согласованию условий договора с другой стороной и облече‐ нию достигнутого консенсуса в надлежащую форму. Такая необходимость возникает в ситуации, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Но отказ от участия в переговорах в этом случае свидетельствует не о нарушении требований к надлежащему поведению в переговорах, а об уклонении от ис‐ полнения обязанности заключить договор. Как указывалось ранее, подобная
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ неисправность является основанием для предъявления пострадавшей сторо‐ ной требования о понуждении контрагента к заключению договора и (или) требования о возмещении убытков исходя из того, что причиталось стороне по договору (п. 4 ст. 445 ГК РФ), но не привлечения к преддоговорной ответ‐ ственности по правилам пункта 3 статьи 434.1 ГК РФ. Сказанное означает, что при заключении договора в обязательном порядке необходимость вступать в преддоговорные контакты обусловлена не обязанностью проводить пере‐ говоры, а обязанностью заключить договор.
В отсутствие же обязанности заключить договор возможность ограниче‐ ния права стороны решать, участвовать в переговорах или нет, представляется сомнительной. Иначе создавалась бы ситуация, при которой потенциальный контрагент под угрозой применения мер преддоговорной ответственности вынужден проводить переговоры даже тогда, когда интерес в заключении контракта данным лицом утрачен. Это несовместимо с базирующимся на сво‐ боде переговоров правом негоцианта выйти из них в любой момент до заклю‐ чения договора и противоречит содержащемуся в пункте 2 статьи 434.1 ГК РФ запрету на вступление в переговоры или их продолжение «при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной».
Тщетность попыток возложить на стороны обязанность проводить перего‐ воры в отсутствие обязательства заключить договор можно продемонстрировать на примере коллективного договора – соглашения, регулирующего социально‐ трудовые отношения между работодателем с одной стороны и всеми его работ‐ никами с другой. Часть 2 статьи 36 Трудового кодекса Российской Федерации (да‐ лее – ТК РФ)19 предусматривает обязанность сторон проектируемого коллектив‐ ного договора вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения предложения, направив инициатору проведения переговоров ответ с указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий. В ТК РФ детально урегули‐ рованы процедура, сроки таких переговоров (ст. 37), распределение затрат на участие в них (ч. 2 ст. 39), порядок разрешения возникающих на преддоговорном этапе разногласий (гл. 61). Закон даже говорит, что при возникновении таких разногласий ни одна из сторон не имеет права уклоняться от участия в прими‐ рительных процедурах (ч. 4 ст. 401 ТК РФ), однако при игнорировании сторо‐ нами данного запрета констатирует недостижение результата переговоров (ч. 3 ст. 406 ТК РФ) и разрешает работникам бастовать (ч. 2 ст. 409 ТК РФ).
Как видно, законодатель не обнаружил пригодные к использованию меры частноправовой ответственности за нарушение обязанности проводить переговоры, ограничившись лишь установлением ответственности админи‐ стративной (ст. 5.28–5.30, 5.32 КоАП РФ20).
Практика показывает, что недопустимость понуждения к участию в пе‐ реговорах очевидна далеко не для всех и законодательная инклюзия преддо‐ говорной ответственности иногда воспринимается как сигнал к возможности требовать проведения переговоров. Так, в одном из дел индивидуальный предприниматель приобрел у хозяйственного общества нежилое помещение в здании бизнес‐центра. В договоре купли‐продажи содержалось условие о проведении сторонами в течение 45 календарных дней с даты перехода права собственности переговоров с целью подписания между обществом (собствен‐ ником газовой котельной и большинства помещений в здании) и предприни‐ мателем договора на оказание услуг по техническому обслуживанию нежилых помещений и объектов инфраструктуры здания, использование которых поку‐ пателем потребуется для осуществления права собственности на приобретае‐ мое помещение. Общество направило предпринимателю проект договора, но предприниматель не принял содержащиеся в проекте условия и обратился к обществу с иском об обязании провести переговоры с целью заключения до‐ говора. Требование мотивировалось нарушением ответчиком добровольно принятого обязательства по согласованию условий договора путем проведе‐ ния переговоров, в рамках которых общество должно было предоставить предпринимателю информацию о финансово‐экономической обоснованно‐ сти указанных в проекте договора тарифов. Суд отказал в удовлетворении иска на том основании, что статьей 434.1 ГК РФ не предусматривается возможность понуждения к проведению переговоров21.
Таким образом, в ходе преддоговорного взаимодействия сторон обя‐ занности вести переговоры места не находится, поскольку при заключении договора в обязательном порядке она поглощается обязанностью заключить договор, а при отсутствии ограничений на вступление в договорные отноше‐ ния оказывается в противоречии с положениями пункта 1 статьи 434.1 ГК РФ о свободе переговоров и запретом на их проведение без намерения достичь соглашения с другой стороной (п. 2 ст. 434.1 ГК РФ).
Свобода переговоров и принцип добросовестности
Добросовестность является центральной правовой категорией в пози‐ тивном регулировании переговоров о заключении контракта. В той части, в какой свобода переговоров не ограничивается законом, соглашением или обычаем, право вверяет переговорный процесс критерию доброй совести. Инициация преддоговорных контактов, ведение параллельных переговоров, объем подлежащей предоставлению информации, интенсивность и сроки со‐ гласования условий будущего контракта, тактика переговоров и, наконец, вы‐ ход из переговоров – все это подчинено требованию добросовестности. Ни один другой аспект принципа свободы договора не претерпевает столь суще‐ ственного сдерживающего влияния добросовестности, как свобода ведения переговоров. Это обусловлено тем, что выведение универсальных правил по‐ ведения в переговорах – задача невыполнимая. На переговоры влияет бесчис‐ ленное количество факторов, уникальные комбинации которых чаще всего не позволяют установить границы должного и недолжного в отрыве от конкрет‐ ной переговорной ситуации, и категория добросовестности здесь становится едва ли не единственным инструментом правового воздействия. Роль прин‐ ципа добросовестности на преддоговорном этапе столь велика, что заслужи‐ вает отдельного исследования, выходящего за рамки данной работы.
Выводы
На современном этапе развития учения о договоре свобода перегово‐ ров претендует на самостоятельность среди иных аспектов конститутивного принципа свободы договора. Этот вывод становится отправным пунктом в де‐ маркации границ между свободой переговоров и свободой заключения кон‐ тракта. Их разделение имеет важное практическое значение, влияя на объем прав кредитора по требованию, основанному на уклонении от исполнения обязанности заключить договор, и по требованию, вытекающему из ненадле‐ жащего поведения визави по переговорам, когда заключение контракта для этого лица не является обязательным.
В той мере, в какой свобода переговоров не ограничивается нормами позитивного права, правовыми обычаями и соглашением сторон, естествен‐ ной ее детерминантой выступает принцип добросовестности, в правовом поле которого исторически «обитают» переговоры.
Свобода переговоров не сочетается с возложением обязанности прово‐ дить их. Установление же запрета на переговоры допустимо, но лишь по со‐ глашению сторон или в силу публично‐правовых ограничений, продиктован‐ ных общественной опасностью планируемой к совершению сделки.
Возможность вести переговоры свободно стала важным фактором граж‐ данского оборота, стимулируя потенциальных контрагентов к взаимодействию друг с другом без опасений за то, что оно станет для них обременительным.
Список литературы Свобода переговоров как самостоятельный аспект принципа свободы договора: содержание и пределы
- Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: общие положения. 4‐е изд. М.: Статут, 2020.
- Гражданское право: учеб.: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов; 2‐е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2020.
- Договорное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 420–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / А. К. Байрамкулов, О. А. Беляева, А. А. Громов и др.; отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: М‐Логос, 2020.
- Комарицкий В. С. Правовое регулирование преддоговорной ответственности по законодательству Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016.
- Муратова О. В. Преддоговорные отношения в международном коммерческом обороте: от материально‐правового к коллизионному регулированию: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017.
- Нам К. В. Принцип добросовестности. Основы теории и правоприменения в контексте немецкого правового опыта: дис. ... д‐ра юрид. наук. М., 2021.
- Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / А. В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко и др.; отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: Статут, 2020.
- Райников А. С. Отношение, возникающее при проведении переговоров о заключении договора по российскому праву: антиделиктная концепция // Вестник гражданского права. 2023. Т. 23, № 2. С. 50–80.
- Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR) / Ed. by C. von Bar, E. Clive and H. Schulte‐Nölke. Munich: Sellier, European Law Publishers, 2009.
- Shell G. R. Opportunism and trust in the negotiation of commercial contracts: Toward a new cause of action // Vanderbilt Law Review. 1991. Vol. 44, № 2. Pp. 221–282.