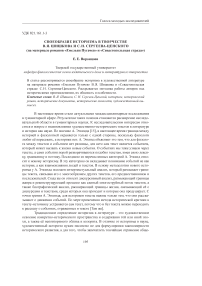Своеобразие историзма в творчестве В. Я. Шишкова и С. Н. Сергеева-Ценского (на материале романов "Емельян Пугачев" и "Севастопольская страда")
Автор: Воронцова Евгения Евгеньевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается своеобразие историзма в художественной литературе на материале романов «Емельян Пугачев» В. Я. Шишкова и «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского. Раскрывается методика работы авторов над историческими произведениями, их общность и особенности.
В. я. шишков, с. н. сергеев-ценский, историзм, исторический роман, исторические документы, исторические личности, художественный вымысел
Короткий адрес: https://sciup.org/146281352
IDR: 146281352 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Своеобразие историзма в творчестве В. Я. Шишкова и С. Н. Сергеева-Ценского (на материале романов "Емельян Пугачев" и "Севастопольская страда")
В настоящее время стали актуальными междисциплинарные исследования в гуманитарной сфере. Результатом таких поисков становится расширение исследовательской области в гуманитарных науках. К исследовательским интересам относится и вопрос о взаимовлиянии художественно-исторических текстов в литературе и истории как науке. По мнению А. Эткинда [15], в настоящее время граница между историей и филологией охраняется только с одной стороны, поскольку филологи любят её пересекать, а историки нет. А. Эткинд объясняет это тем, что для филолога между текстом и событием нет разницы, для него сам текст является событием, который может вызвать к жизни новые события. О событиях мы тоже узнаем через тексты, а сами события порой разворачиваются подобно текстам, имея свою лексику, грамматику и поэтику. Последнюю из перечисленных категорий А. Эткинд относит к новому историзму. В эту категорию он вкладывает понимание событий не как истории, а как взаимовлияния людей и текстов. В основу методологии нового историзма у А. Эткинда положен интертекстуальный анализ, который размыкает границы текста, связывая его с многообразием других текстов, его предшественников и последователей. Сюда же он относит дискурсивный анализ, размыкающий границы жанра и реконструирующий прошлое как единый многоструйный поток текстов, а также биографический анализ, расширяющий границы жизни, связывающий её с дискурсами и текстами, среди которых она проходит и которые она продуцирует. С точки зрения А. Эткинда, для историков тексты важны только тем, что они рассказывают о движении событий. По мере применения метода исторической критики к тексту-источнику устраняется сам текст, потому что и без текста можно переходить к рассказу о событиях, отраженных в тексте [Там же].
Традиционное определение историзма в литературе – это художественное освоение конкретно-исторического пространства и содержания той или иной эпохи, а также её неповторимого облика и колорита. В отличие от историзма в науке, художественный историзм нужен писателю не для формулировки закономерности исторического развития, а для того, чтобы запечатлеть тончайшее отражение обще- го хода истории в поведении и сознании людей. По мнению А. Эткинда, именно новое понимание термина историзма даёт исследователю возможность наиболее полноценно изучить литературный художественный текст. «Чтение на фоне истории вновь погружает текст в контекст и переосмысляется исторический момент в свете литературного текста. Оптические метафоры – фон, свет – закономерны: целью всякого историзма является рассматривание в полутьме, поиск спрятанного, распутывание улик – и, в конечном итоге, демонстрация находок в ярком свете собственного нарратива» [Там же, с. 5].
В. Я. Малкина предлагает рассматривать историзм в художественной литературе с нескольких точек зрения. Так, она апеллирует к точке зрения В. В. Кожинова, который считал, что историзм есть везде, начиная от поэм Гомера до постмодернистских произведений, поскольку любое произведение искусства так или иначе воплощает эпоху. Одновременно В. В. Кожинов определял историзм в узком смысле, как признак исторического жанра, отмечая, что, хотя историзм и присутствует в любом подлинно художественном произведении, но он не вполне полноценный, потому что человечество не обладало историческим мышлением и знанием вплоть до эпохи Просвещения. Определение историзма мы находим у М. И. Стеблин-Ка-менского в его «гипотезе нетождества», где он рассматривает историзм как категорию, которая определяется не разницей в образе жизни, быте и т. п., а осознанием отличия человеческой психологии в разные исторические периоды (цит. по: [4, с. 16–17]). Отсутствие в настоящее время наиболее полно сформулированной категории историзма в художественной литературе, с одной стороны, позволяет исследователю выбрать оптимальный способ для работы над историко-художественным произведением, с другой стороны, мы отмечаем, как и Н. Разманова, недостаток внимания историков к художественным произведениям. Это обусловлено прежде всего распространенным мнением, что они (произведения) крайне субъективны и являются творческой фантазией писателя [6]. Она же отмечает, что, несмотря на различные приёмы и средства, в конечном итоге предмет исследования один и тот же – жизнь людей во всём её многообразии. Именно это и позволяет обнаружить точки соприкосновения в беллетристике и науке [Там же].
В литературе самыми известными формами романов, созданных с использованием документа, исторического факта при условии сохранения основной канвы событий, а также включения в художественное полотно вымышленных сюжетный линий и персонажей, являются исторический роман, роман-хроника, биографический и автобиографический роман, роман-дневник, роман-мемуары [11]. К основным чертам исторического романа можно отнести особую форму художественного вымысла. Но это не просто повествование о случившихся событиях, а повествование о прошлом, в котором стирается грань времени и читатель узнает вечное настоящее [Там же]. Также В.Я. Малкина выделяет и такую особенность исторического романа, как заимствование предшествующих литературных традиций: романа воспитания, семейно-биографического, авантюрного романа и т. д. [4, с. 17].
Мы рассмотрим своеобразие историзма двух исторических романов: «Емельян Пугачев» В. Я. Шишкова и «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского. Эти произведения были написаны в один период – 30–40-е годы XX века, когда, по мнению А. Толстого, литература обратилась к жанру исторического романа в поисках великого исторического наследства [5]. Тогда же были созданы произведения: «Одеты камнем» и трилогия из времен Екатерины II О. Д. Форш (1924–1925), «Степан Разин» А. П. Чаплыгина (1926), «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Н. Тынянова (1925, 1928), «Болотников» и «Труды и дни Ломоносова» Г. П. Шторма (1930, 1932),
«Цусима» А. С. Новикова-Прибоя (1920–1940), «Возмутитель спокойствия» Л.В. Соловьева (1940), «Чингиз-хан» и «Батый» В. Г. Яна (1939, 1942), «Дмитрий Донской» С. П. Бородина (1941), «Великий Моурави» А. А. Антоновской (1937–1958) и др.
Шишков определил форму своего романа «Емельян Пугачев» (1938–1945) как «историческое повествование», «историческая хроника», а «Севастопольская страда» (1937–1939), по словам Сергеева-Ценского, является эпопеей. Писатели значительно расширили форму исторического романа в соответствии со своими творческими замыслами.
В автобиографической записке о работе над романом В. Я. Шишков сообщал: «…историческое повествование “Емельян Пугачев” <…> общим объемом около 100 авторских листов. Здесь не только само пугачевское движение, но и довольно полный показ русской жизни XVIII века, различных сословий и социальных группировок с их борьбой за власть в обществе, за материальные ценности и т. д., а со стороны крепостных крестьян и людей работных – землю и волю» [13, с. 519]. Основными источниками для написания такого масштабного исторического полотна писателю-исследователю В. Я. Шишкову послужили авторитетные работы, такие как «История Пугачева» А. С. Пушкина, «Курс лекций по русской истории» В. О. Ключевского, «История государства Российского» Н. М. Карамзина, архив и следственное дело Пугачева, воспоминания очевидцев о пугачевском восстании, литературные произведения и документы об эпохе.
Как отмечает С. Н. Сергеев-Ценский в своих воспоминаниях, замысел его эпопеи начался «…с идеи написать историю Севастополя для детей в виде книжки небольшого объема; в ней описание защиты Севастополя должно было занять страниц пятьдесят». Однако в ходе работы произошли изменения: «… когда я начал читать материалы, то сам собою у меня сложился план эпопеи в 100 печатных листов. Я писал эпопею, что называется, запоем, отчасти потому, что я был покорен несказанным величием и красотой подвига рядовых русских солдат и матросов, самозабвенно защищавших в течение целого года то, что ˂невозможно было защищать˃, по мнению обоих главнокомандующих всеми силами Крыма – и князя Меньшикова, и князя Горчакова» [5]. Основным источником вдохновения, послужившим для написания романа, у Сергеева-Ценского были воспоминания отца Николая Сергеевича Сергеева, унтер-офицера, участника Крымской войны 1853–1856 годов [Там же]. Писатель в статье «Эпопея “Севастопольская страда”» писал, что, когда настало время взяться за неё (эпопею), он скупил в букинистических магазинах Москвы всё, что нашлось на эту тему в исторических журналах «Русская старина», «Русский архив». Одновременно были куплены и знакомые ему с детства описания обороны Севастополя Тотлебена, книги Дубровина, Богдановича и других авторов [7, с. 257]. Была совершена поездка в Севастополь. Писателя влекли разрушенные бастионы и редуты легендарного города. Как отмечает личный секретарь Сергеева-Ценского И. М. Шевцов, он побывал на Малаховом кургане, на Корабельной, Северной стороне города, на Историческом бульваре и в соборе, где похоронены П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Также он посетил библиотеку, основанную П. С. Нахимовым и В. А. Корниловым [13, с. 236].
Творческой лабораторией, предваряющей создание романа-эпопеи «Севастопольская страда», у Сергея Николаевича был роман «Зауряд-полк», сюжет которого разворачивается в Севастополе [9, с. 258]. У Шишкова пробой пера, раскрывающей стихийный протест народа против жестокого мира, стали его повести «Тайга» и «Ватага» [7; 8; 10]. Шишков писал об этом так: «Я хотел на эту тему написать рассказ, изобразив зверское буйство ватаги. В процессе же работы мне пришла мысль, что “зыковщина” и “пугачевщина” – родные сестры, что мужик – каким был при Иване Грозном, царе Петре, Екатерине, таким в своей массе и остался до последнего времени… Словом, мне захотелось обе эпохи – “зыковщину” и “пугачевщину” – сблизить, сопоставить, дать читателю возможность сделать соответствующие выводы» [14, с. 256]. Несомненно, уже эти ранние произведения отличались определенной глубиной историзма, в частности «Ватага», так как, по словам С. Ю. Николаевой, В. Шишков здесь соединил злободневность и историзм, он высказал «приговор своей эпохе – приговор, который не мог устроить в 1920-е гг. критиков и идеологов всех лагерей, партий и направлений» [8, с. 70–71]. Прежде чем перейти к большой эпической форме, оба писателя отрабатывали свои художественные приёмы и принципы в произведениях менее масштабных, в жанре повести, рассказа, очерка.
Романам «Севастопольская страда» и «Емельян Пугачев» присущи такие общие черты, как строгое выстраивание авторами хронологически-событийной канвы романов и деление повествовательного полотна на два антагонистических параллельных мира, не существующих друг без друга. Мир простого люда у Сергее-ва-Ценского – это солдаты, матросы, обыватели – защитники Севастополя. У Шишкова – казаки, крепостные крестьяне, поддержавшие Пугачева. Второй мир – это мир привилегированных сословий, высоких чинов и званий.
К одной из особенностей историзма в этих романах можно отнести достоверность описания исторических событий и его подлинную документальность, подтверждаемую автором. В. А. Юдин отмечает, что при описании Шишковым сражения у местечка Кунерсдорф, где прусский король Фридрих во время бегства потерял свою шляпу с султаном, тут же автором дается уточнение, что эта шляпа хранится в Эрмитаже [16, с. 45]. Также можно считать особенностью историзма и детальность в описании бытовых вещей эпохи, в которую разворачивались события у Сергее-ва-Ценского. Например, в «Севастопольской страде» – это скрупулезное изображение обмундирования, вооружения армии и флота Российской империи, её противников. Более того, чтобы показать, насколько важно и нужно было нашей армии перевооружение, Сергеев-Ценский рассказывает о разработанной прогрессивной реформе и её идейном вдохновителе князе А. Меньшикове. С. Н. Сергеев-Ценский писал о том, что в исторических романах нужно войти в дух эпохи, чтобы её не модернизировать [9, с. 258].
Романы обоих писателей изобилуют портретами реальных исторических личностей – от Николая I до простого матроса в «Севастопольской страде», от императрицы Елизаветы Петровны до сподвижников Емельяна Пугачева в произведении Шишкова. С. А. Лысенко отмечает, что в историческом повествовании у Шишкова мало вымышленных лиц и ситуаций. Достоверно выписаны образы сподвижников и ближайших помощников Пугачева: А. Овчинникова, И. Челка, Зарубина, М. Шигаева; крепостных крестьян: И. Белобородова, А. Хлопуши, башкира Салавата Юлаева; ученых, писателей, зодчих: М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. И. Баженова [3, с. 58]. Для ввода в эпопею исторических личностей Сергеев-Ценский изучил материал о Николае I, Наполеоне III, английской королеве Виктории, лорде Пальмерстоне и других представителях английского правительства, являющихся яркими персонажами его эпопеи. Для описания состояния Турции в тот исторический период он изучил материалы о её экономическом положении, политике, познакомился с политикой западных держав, общественной жизнью Англии, Франции, сопоставив их с общественной жизнью Российской империи [9, с. 257–258]. Нужно отметить важную особенность описания героев: их достоверность обусловлена историческими документами, которые имелись в распоряжении писателей.
В произведениях В. Я. Шишкова и С. Н. Сергеева-Ценского широко используется фольклор. Он усиливает впечатление исторической достоверности. Колоритно, разнообразно фольклор народов Сибири и Алтая представлен в романе-эпопее «Емельян Пугачев» [2]. В. Н. Кочетов отмечает, что, знакомясь с фольклором о Пугачеве, Шишков тщательно производил отбор преданий, вводя в роман только те, которые реально выражали народное отношение к Пугачеву и его движению. В повествовании Шишкова ряд сцен перекликается с народными легендами и преданиями [Там же]. Речь персонажей в романах одновременно народная и авторская, что делает ткань произведений живой и исторически достоверной. Иначе говоря, обращение к фольклору становится одним из инструментов достижения художественного историзма.
Природа в романе-эпопее «Емельян Пугачев» играет важную роль. Она, по мнению Н. М. Дмитриевой, используется Шишковым для контраста в изображении человека и природы. Это прежде всего связано с социальной характеристикой верхов российского общества, с их мироощущением и мировоззрением. Чем дальше человек от мира природы, тем более нищ и убог его духовный мир; чем ближе и глубже связи человека с природой, тем он более богат как личность [1, с. 56]. Такую же функцию природа Крыма выполняет и в романе-эпопее «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского. Существенна такая особенность, как единство выражения непокорности, героизма, патриотизма защитников Севастополя и природы Крыма.
Таким образом, рассмотренные основные особенности историзма романов «Емельян Пугачев» В. Я. Шишкова и «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Цен-ского позволяют говорить о близости творческих принципов двух писателей, о родстве их историзма.
Список литературы Своеобразие историзма в творчестве В. Я. Шишкова и С. Н. Сергеева-Ценского (на материале романов "Емельян Пугачев" и "Севастопольская страда")
- Дмитриева Н. М. Изображение природы в историческом повествовании В. Я. Шишкова «Емельян Пугачев»//Проблематика и поэтика творчества В. Я. Шишкова: Сб. научн. тр. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1991. С. 44-56.
- Кочетов В. Н. Фольклор в романе В. Я. Шишкова «Емельян Пугачев». //Уральский федеральный университет. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/4976/2/fu2-1976-05.pdf (дата обращения: 15.09.2018).
- Лысенко С. А. Концепция национальной истории в романе В. Шишкова «Емельян Пугачев»//Проблематика и поэтика творчества В. Я. Шишкова: Сб. научн. тр. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1995. С. 57-64.
- Малкина В. Я. Поэтика исторического романа: Проблема инварианта и типологии жанра//Литературный текст: проблемы и методы исследования. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. С. 140-146.
- Михайлов О. Богатырь с реки Цна //Как наши деды воевали. URL: http://grandwar.kulichki.net/books/Sergeev_C/Sergeev_C00.html (дата обращения: 24.09.2018).
- Разманова Н. На стыке двух континентов //Вопросы литературы. 2003. № 4. URL: magazines.vuss.ru/voplit/2003/4/razman-pr.html (дата обращения: 23.09.2018).
- Николаева С. Ю. «Ватага» В. Я. Шишкова как нравственно-философский роан//Наследие В. Я. Шишкова: феноменология творчества. К 135-летию со дня рождения В. Я. Шишкова: колл. моногр. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2010. С. 148-167.
- Николаева С. Ю. Традиции В. А. Жуковского и А. С. Пушкина в творческом сознании В. Я. Шишкова (по роману «Ватага»)//Вестник Тверского государствен ного университета. Серия: Филология. 2012. № 3. С. 63-72.
- Сергеев-Ценский С. Н. Талант и гений. М.: Современник, 1981. 319 с.
- Чалмаев В. Колокола истории (Эпический мир «Емельяна Пугачева» Вяч. Шишкова)//Шишков В. Я. Емельян Пугачев: Историческое повествование: в 3 кн. Кн. 1. М.: Сов. Россия, 1989. С. 5-20.
- Шарифова С. Ш. Типы документально-художественного романа//Известия Пензенского гос. пед. ун-та. 2011. № 23. С. 271-277.
- Шевцов И. М. Рассказы. «Севастопольская страда». «Синопский бой»//Орел смотрит на солнце. (О Сергееве-Ценском). М.: Мол. гвардия, 1963. 336 с.
- Шишков В. Я. Автобиография//Пейпус-озеро: Роман, повести, рассказы, воспоминания, автобиография. М.: Современник, 1985. С. 518-520.
- Шишков В. Я. Емельян Пугачев: Историческое повествование: в 3 кн. Кн. 1. М.: Сов. Россия, 1989.
- Эткинд А. М. Новый историзм, русская версия //Новое литературное обозрение. 2001. № 47. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/edkin.html (дата обращения 23.09.2018).
- Юдин В. А. В. Шишков -писатель-историк. К вопросу о жанре романа «Емельян Пугачев»//Проблематика и поэтика творчества В. Я. Шишкова: сб. научн. тр. Тверь, 1995. С. 42-57.