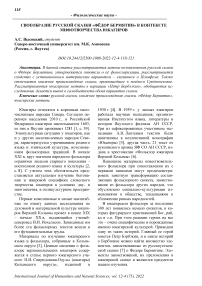Своеобразие русской сказки «Фёдор Бермятин» в контексте мифотворчества юкагиров
Автор: Высоцкий А.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 12-4 (75), 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются истоки возникновения русской сказки о Фёдоре Бермятине, утверждается гипотеза о её фольклоризации, рассматривается сходство с установленным материнским вариантом - сказанием о Полифеме. Также отмечается книжное происхождение сказки, произошедшее в позднем Средневековье. Рассматриваются юкагирские мотивы в вариации «Пётр Бербээкин», обобщаются исследования, делается вывод о самобытности обоих вариантов сказки.
Русской сказки, книжное происхождение сказки, Фёдор Бермятин, юкагирские мотивы
Короткий адрес: https://sciup.org/170197298
IDR: 170197298 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-12-4-118-121
Текст научной статьи Своеобразие русской сказки «Фёдор Бермятин» в контексте мифотворчества юкагиров
Юкагиры относятся к коренным малочисленным народам Севера. Согласно переписи населения 2010 г., в Российской Федерации юкагиров насчитывается 1603, из них в Якутии проживает 1281 [1, с. 39]. Этнокультурная ситуация у юкагиров, как и у других малочисленных народов Севера, характеризуется утрачиванием родного языка и этнической культуры, исчезновением фольклорных традиций. В начале XXI в. круг знатоков народного фольклора ограничен людьми старшего поколения – носителями родного языка и культуры [2, с. 8]. С учетом этих обстоятельств представляется актуальным изучение бытования и жанровой специфики словесного творчества юкагиров в условиях дву- и многоязычия, в поликультурном пространстве.
Первые комплексные и самые масштабные по охвату данных исследования по духовной и материальной культуре юкагиров Верхней Колымы провел в конце XIX – начале XX в. выдающийся ученый-северовед В.И. Иохельсон. Записанные им более ста фольклорных текстов вошли в его фундаментальные труды.
Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора, собранные в Колымском округе [3]. Ценные сведения о фольклоре верхнеколымских юкагиров содержатся в статье первого юкагирского ученого Н.И. Спиридонова-Одулы (юкагиры) Колымского округа», изданной в
1930 г. [4]. В 1959 г. у лесных юкагиров работала научная экспедиция, организованная Институтом языка, литературы и истории Якутского филиала АН СССР. Три из зафиксированных участником экспедиции А.Н. Лаптевым текстов были напечатаны в коллективной монографии «Юкагиры» [5], другая часть, 21 текст из рукописного архива ЯФ СО АН СССР, издана в хрестоматии «Фольклор юкагиров Верхней Колымы» [6].
Нынешние материалы повествовательного фольклора при сопоставлении их с первыми записями могут продемонстрировать заметную трансформацию составляющих фольклорного сюжета, заимствования из фольклора других народов, что обусловлено социально-культурными изменениями в обществе, тенденциями к сближению разных народностей.
В юкагирском фольклоре за последние 300 лет появилось немало сюжетов, в которых фигурируют христианский Бог, рай, ад и т.п. При этом реакции героев на все это – очень специфические и порожденные именно юкагирской культурой. Приводим одну из таких историй. Главный ее герой зовется Петр Бэрбэкин, и в цикле историй о Бэрбэкине можно найти множество элементов, заимствованные из русскоустьин-ской сказки [7] о Федоре Бермятине. Элементы заимствований, их преломления в юкагирской сказке и являются предметом нашего изучения.
Сказки о Фёдоре Бермятине вообще -это комплекс вариантов единого (это важно подчеркнуть) сюжета, повествующий о хождении героя по велению царя в Вавилонское царство за символами власти -скипетром и державой [8]. Тематически они относятся к вавилонскому циклу сказаний. По классификации «Сравнительного указателя сюжетов» - под номером №485, «Борма-Ярыжка» [9].
Согласно «С.у.с», имеет 14 русских и 3 опубликованных белорусских варианта, но не имеет параллелей у других восточнославянских народов. Распространены почти по всей территории России, что делает затруднительным установление «материнского» варианта. Тем не менее, можно предположить, что в Русское Устье сказка проникла с первыми группами мигрировавших крестьян-помор из Архангельской губернии [10].
Также важно отметить, что русская волшебная сказка о Вавилонском царстве имеет позднее книжное происхождение. Сказки о Федоре Бермятине рассматривают [11] как позднюю фольклоризацию древнерусской Повести о хождении героя в Вавилонское царство за скипетром и державой для московского царя и переводной Повести о королевиче Брунцвике, где сказочный герой добивается цели, обманув Вавилонского змея, Кривого разбойника, Деву- воительницу (типа амазонки) и Льва. Таким образом, у этой сказки долгий путь оформления, и эта деталь раскроется далее.
Обратимся к названию юкагирской сказки. Становится очевидно, что имя героя - это юкагирский вариант русского имени, освоенного фонетически. Так, в имени Фёдор изменяется ‹Ф›, которой нет в системе юкагирского языка, и ‹О›, которая выражена звуком [Ъ], также ему несвойственного (также имена Фёдор и Пётр в принципе созвучны). Фамилия «Бэрбэкин» же отображает закон сингармонизма, начиная с замены ‹Е› на ‹Э›, затем, определяя по гласному первого слога основу переднего ряда, заменяет сочетание [м’a] на [бэ]. Учитывая устную передачу сказок, тесные контакты с русским этносом, такое освоение оправдано (ср. рус- ские же варианты названий: Фёдор Бурмакин, Хёдор Бермечин).
Отметим также, что фамилия главного героя в русском варианте имела конкретную семантику. Ярыжками назывались те, кто исполнял черную работу по двору -колол и таскал дрова, носил воду и т.д. Борма-Ярыжка же исполнил поручение царя доставить ему регалии. Бермята - по сути, "беремя" - тяжесть, тоже связывает героя с обязанностью. В юкагирском варианте же эта семантика утрачивается, оставляя чисто номинативную функцию.
Несмотря на инородную фольклорную основу, материал юкагирской сказки глубоко своеобразен и отображает культуру своего народа.
Главный герой не берёт на себя обязанности извне, он исходит из собственного интереса - спастись от смерти. Отправитель здесь также характерный: вместо царя - шаман. Здесь нужно обратиться к религиозным верованиям народа: представление о трёх Мирах и их функционирование различно, чем, например, в христианстве. После смерти человек в любом случае попадал в Нижний мир, но имел возможность переродиться. Однако сделать это можно, прежде всего, внутри своего рода. Судя же по сюжету, родни у Петра нет, возможно, он опасался навсегда остаться в Нижнем мире. Недостача [12] в данном случае выражается опасностью умереть.
Закономерно, что Пётр в поиске спасения попадает именно в Нижний мир. Этим походом очищается сама опасность смерти, поскольку явление её становится понятным. Сразу вспоминается поход Одиссея (а после - Энея) в царство мёртвых. Образ одноглазого великана (Кривого Разбойника) во многом схож с образом циклопа Полифема, противостоящего Одиссею. Впрочем, этот миф можно рассмотреть как общий для индоевропейских народностей: Кудзиева С.О. (1) примечает схожесть сюжета с нартской мифологией (Урызмаг), а О.А. Плахова - с английской. Кривой Разбойник - это вариация Полифема, получившая значительную обработку. Тем примечательнее, что юкагирская сказка “Пётр Бэрбэкин” выстраивает образ полнее, как бы сплавляя русский и индо- европейский сюжеты в один (сохраняя собственную мифологическую основу). Приведём сравнительную таблицу обра- зов. Мотивы выделены произвольно, но достаточно отображают сходства- различия.
Таблица 1. Различия в вариантах сказания о Циклопе
|
Одиссей |
Фёдор Бермятин |
Пётр Бэрбэкин |
|
|
Способ нахождения |
Приплытие на остров |
Приплытие под город, далее -пешком |
Путешествие в Нижний мир |
|
Мотив путешествия |
Возвращение домой |
Возвращение к царю с “символами” |
Спасение от смерти |
|
Положение Героя |
Команда из 12 человек |
Утратил команду в ходе путеш. |
Одиночка |
|
Жилище Антагониста |
Пещера |
Изба |
Каменный дом. “Не дом, пещера”. |
|
Антагонист -... |
Циклоп |
“Старик, слепой, одноглазый, однорукий, одноногий” |
Человек, посреди лба один глаз (второго лишили высшие силы). На правой руке нет мизинца и большого пальцев. Поскольку живёт в Нижнем мире, отождествлён со злым духом. |
|
Угроза Герою |
Быть съеденным |
Быть съеденным |
“Возьму, разорву, брошу” |
|
Хитрость Героя |
Напоить вином, во сне выколоть глаз |
Притвориться доктором, пообещать восстановить второй глаз распл.металлом, выжечь здоровый глаз |
Притвориться знахарем, пообещать восстановить второй глаз распл.металлом, выжечь здоровый глаз |
|
Способ ухода из жилища |
Повиснуть на животе овец, пройти со стадом |
Спрятаться в голове идола (=дьявола), оказаться выброшенным внутри него |
Спрятаться в грудной клетке скелета, быть выброшенным |
|
Дальнейшие действия |
Украсть овец, поддразнить циклопа и объявить своё имя |
Сказать “я на дворе” и убежать. |
Схватить топорик, прилипнуть к нему (и выдать себя), отрезать палец, сбежать |
Далее Пётр встречается с Оплетаем, адаптацией русского Заплетая, изначально – одного из змеев Вавилонского царства. Своеобразие эпизода в способе спасения: Оплетай боится шиповника. Если в русском варианте главному герою нужно было просто расслабиться, чтобы спастись, то здесь материал обогатился народным верованием. В условиях Крайнего Севера растёт преимущественно две ягоды – брусника и шиповник, причем юкагиры отдают предпочтение последней. Например, есть такое блюдо: вычищенные, вымытые потроха перемешивают с ягодами шиповника и заливают рыбьим жиром. Шиповник имел важное, почти сакральное значение.
Примечателен и глубоко оригинальный эпизод о попадании героя в Верхний мир. В Среднем мире ему уже запрещено жить, в Нижний он не желает идти сам, а в
Верхнем его могут убить. Чтобы спастись, Петр Бэрбэкин берет бычью шкуру, разрезает её по кругу узкой ленточкой и ограждается. Внутри нее рассыпает землю, прихваченную с собой и по четырем углам ставит кресты. Так он сотворил «срединную» землю. В странном (на первый взгляд) способе измерения земельной площади бычьей шкурой отразилось древнее мифологическое воззрение юкагирского народа, где бычья шкура и сам бык/земля равнозначные символы по принципу: pars pro toto, т.е. часть (бычья шкура) заменяет целое (землю).
Таким образом, сказка «Пётр Бэрбэкин» – необычайный, глубоко народный памятник юкагирского фольклора, который хотя и использовал заимствованную основу, обогатил её собственным разработками и углубил содержание.
Список литературы Своеобразие русской сказки «Фёдор Бермятин» в контексте мифотворчества юкагиров
- Филиппова В.В. Юкагиры Якутии: динамика демографических показателей второй половины XX - начала XXI вв. // Казанская наука. - 2014. - № 11. - С. 39-43.
- Жукова Л.Н., Николаева И.А., Дёмина Л.Н. Фольклор юкагиров Верхней Колымы. -Якутск: Изд-во Якут. ун-та, 1989. Ч. 1. 161 с.; Ч. 2. 89 с.
- Иохельсон В.И. Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора, собранные в Колымском округе. - Якутск: Бичик, 2005. - 272 с.
- Спиридонов Н.И. Одулы (юкагиры) колымского округа. - Якутск: Северовед, 1996. -78 с.
- Юкагиры: Историко-этнографический очерк. - Новосибирск: Наука, 1975. - 244 с.
- Венедиктов Г.Л. Литература и культура: Сказки Русского Устья // РЛ. - 1985. - №2. -С. 128-141.
- Шайкин А.А. К вопросу о жанре Сказания о Вавилоне граде // Русская литература. Сб. статей Казахск. гос. пед. ин-та им. Абая. Алма-Ата, 1975. Вып. 5. - С. 87-94.
- Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. - Л., 1979.
- Старинные люди у холодного океана: Русское Устье Якутской области Верхоянского. - М.: Типография П.П. Рябушинского, 1914. - 133 с.
- Словарь книжников и книжности Древней Руси / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом). - Ленинград: Наука, ленингр. отд-ние, 1987 / Вып. 1. (XI - первая половина XIV в.) - 1987. - 492 с.
- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. - М.: Лабиринт, 2003 (ООО Тип. ИПО профсоюзов Профиздат). - 143 с.