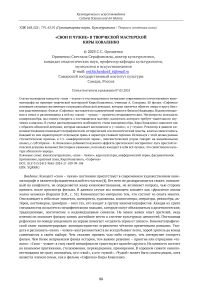«Свои и чужие» в творческой мастерской Киры Коваленко
Автор: Орищенко С.С.
Рубрика: Культурология и искусствоведение
Статья в выпуске: 1 (100) т.27, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена концепту «свои - чужие» и его отражению в метаязыке современного отечественного кинематографа на примере творческой мастерской Киры Коваленко, ученицы А. Сокурова. Её фильм «Софичка» посвящен сложным жизненным ситуациям абхазской девушки, которая пытается обрести опору в кругу близких родственников. Фильм «Софичка» поставлен по одноимённой повести Фазиля Искандера. Взаимоотношения в семье и размежевания в ней на «своих - чужих» - примета сегодняшнего дня. Несмотря на молодость кинорежиссёра, мы можем говорить о состоявшемся мастере, идиостиль которого требует тщательного изучения и анализа. В статье рассматриваются особенности стиля кинорежиссёра. Кира Коваленко знакомит нас с образом абхазской девушки, которая вызывает восхищение и у «своих», и у «чужих. Режиссер в данном киноповествовании совмещает географический, исторический и психологический пласты, классы совместились. Каждый из них характеризует отдельную грань в характере главной героини. Используя с этой целью разные стилистические приемы, в т.ч. «анафорический экран», лингвистический (герои говорят на национальном языке), с субтитрами - К. Коваленко добивается нужного эффекта зрительского восприятия: путь простой чегемской девушки вызывает бесспорное уважение, поскольку вмещает в себя всё лучшее, что свойственно культуре абхазского народа.
Кинокультурология, «свои - чужие», ядро культуры, анафорический экран, фасцинативное притяжение, крупный план, кира коваленко, «софичка»
Короткий адрес: https://sciup.org/148331025
IDR: 148331025 | УДК: 168.522 | DOI: 10.37313/2413-9645-2024-27-100-99-104
Текст научной статьи «Свои и чужие» в творческой мастерской Киры Коваленко
EDN: YQXKRG
Введение . Концепт «свои – чужие» постоянно присутствует в современном художественном кинематографе и является фундаментальной его частью [4]. Без него не разворачивается сюжет, основанный на конфликте, не определяется жанр киноповествования, не возникает вопроса, чью сторону принять после просмотра фильма. В данном случае мы понимаем концепт как « фрагмент опыта жизни человека» [Карасик В.И., с. 31]. Киноискусство интересно тем, что состоит из опыта многих. Оно вмещает в себя опыт писателя, сценариста, художника, композитора, оператора, режиссёра, актёров, костюмеров, гримёров – всех тех, кто входит в группу кинематографистов. Каждая из групп специалистов пользуется специфическими знаками, которые могут объединяться в архетипические, традиционные, поэтические и индивидуальные символы. Не менее важен опыт зрителей, ведь именно он помогает фильму занять достойное место в системе культурных ценностей. Постоянная рефлексия по поводу увиденного на экране помогает «отделить зёрна от плевел». Кинематографический сеанс сконцентрирован: кинопространство ограничено чёткими временными рамками. Увидеть и распознать «своих – чужих» внутри кинотекста не всегда бывает легко, порой зритель до конца сомневается в своём выборе. Чем сложнее принять чью-либо сторону, тем интереснее смотреть фильм. Чем более неприемлем финал истории, тем важнее решение – приятие или отрицание «чужого». «Свои – чужие» в силу своей специфики не существуют один без другого. Их ценность состоит во взаимном притяжении, столкновении, перекодировке, примирении. В хорошем сюжете киноповествования не сразу опознаёшь, кто «свой», а кто «чужой». «Чужой» может быть совсем рядом, хотя является членом семьи, как в фильме «Софичка» Киры Коваленко.
История вопроса. Творчество Киры Коваленко еще не было предметом пристального научного исследования. Кроме энциклопедических сведений в Интернет-пространстве, ей посвящен ряд рецензий, статей научно-популярного характера1, анонсов. Настоящая статья продолжает исследование артефактов современного киноискусства в парадигме «свои-чужие» как предмета культурологического познания [Орищенко С.С. а), б)].
Методы исследования . В работе использован интегративный системно-культурологический подход с элементами герменевтики. И здесь резонно обратиться к методологии С.И. Карасика, утверждавшего: «Интерпретативный анализ – основной метод герменевтики в основе главного метода изучения концепта» [Карасик В.И., с. 121].
Результаты исследования . Часто в основе взаимоотношений «своих – чужих» «чужие» характеризуются другой культурой. Известно, насколько психологически тяжелой становится ситуация, когда «чужим» становится человек, знакомый с детства. Погружение в систему ценностей иной культуры позволяет зрителям принять или отринуть персонажей, разделяя их на героев и антигероев. Как вести себя персонажу, если «чужой» приблизился так близко? Как оценить его? Как сформировать к нему своё отношение. Юрий Арабов считает: « Человек мыслит и воспринимает по аналогии, по тому, как новое соотносится со старым. Новое будет понято тем скорее, чем оно больше совпадает со старым. Таким образом, художественный авангард будет пользоваться успехом лишь тогда, когда он создаст за собой историческую традицию, когда произведение будет сравниваться с потоком, с явлением в целом. Чем легче это единичное произведение напомнит поток, тем скорее узнается, скорее оценится аудиторией »2 .
«Свои – чужие» различны на всех уровнях, начиная с этимологии и заканчивая морфологией и синтаксисом. « Ядро культуры вырабатывается веками и обретает устойчивость и прочность социокультурно-генетического аппарата. Оно определяет и способ реагирования социума на инновации. Оно, следовательно, обеспечивает адаптационные механизмы, возможность приспособления к меняющимся условиям материального и духовного бытия данного общества... Ядро культуры обладает высокой устойчивостью потому, что оно окружено особым защитным культурным поясом. Он состоит из системы социальных, поведенческих, нравственных и интеллектуальных реакций на все виды аккультурации. Защитный пояс препятствует воздействию на ядро культуры со стороны внешней культурной Среды, защищает это ядро от разрушения и трансформации» [Ракитов А.И., с. 7]. Особую роль это приобретает в многонациональном государстве, где каждый народ опирается на традиции своей культуры.
В фильме «Софичка» Киры Коваленко героиня постоянно обращается к молодости: к счастливой, смеющейся юности, к тому времени, когда все были живы. Героиню играет (непрофессиональная актриса Лана Басария). Повзрослевшая и повидавшая горе на своём веку, героиня не изменила отношения к миру и людям (актриса Циала Инапшба). Доброе сердце сохранило добрые отношения с людьми на протяжении всей жизни. Героини соприсутствуют в кадре. Пожилая наблюдает за беззаботностью молодой. Её радует смех девушки, её легкость, грация, умение любить, быть общительной, нравиться всем. Кажется, что её жизнь – жизнь счастливого человека, наполненная особым смыслом, особенной дорогой, которую она разделит со зрителем и «заразит» счастьем, покажет «свой» светлый путь. Когда героини соприсутствуют в кадре, уместно сказать о роли монтажа в идио-стиле Киры Коваленко. «Здесь применяется третий вид монтажа, монтаж сходящийся, или конвергентный, когда чередуются моменты двух действий, которым предстоит соединиться. И чем больше действия сходятся, чем ближе их соединение, тем стремительнее они чередуются (ускоренный монтаж)» [Делёз Ж., с. 47].
Очаровательное лицо Софички в молодости превратилось в лик мудрой женщины. Её лицом не устаёшь любоваться. Она прекрасна и в юности, и в старости. Морщинки только подчёркивают кра- соту этой женщины, сумевшей сохранить в себе человека, не смотря на все невзгоды и горести, которые ей пришлось пережить. Лёгкость её имени: Софичка - подчёркивает в ней врождённую способность к мудрости. Она заключается в сильном характере Софички, способной выстоять при самых сложных испытаниях: смерти мужа, потери ребёнка, отстаивании чести незамужней женщины, работы на преодолении физических сил, сопровождении свёкра и свекрови в Гулаг, и работы, работы, работы. Окружающие, наблюдая за ней, часто любуются не только красотой её лица, но и фигурой. Несколько кадров в разных эпизодах демонстрируют её стройные ноги. Они быстры и легки, напоминают строки из стихотворения М.И. Цветаевой: «Не устают мои лёгкие ноги выситься над высотой»3 . Лёгкие ноги нашей героини всегда идут навстречу тому, кто нуждается в её поддержке. Символика стройных ног, подчёркивающая женское начало в Софичке, противопоставлена силе характера героини. Хрупкая, полувоздушная, Софичка может дать отпор тому, кто посягает на её честь. Ни в одной ситуации героиня не запятнала своего честного имени. Всем, кто с нею рядом, легко с ней. Её сердце очаровывает окружающих бескорыстной помощью, пониманием, желанием поделиться душевным теплом, стремлением прийти на помощь. Кира Коваленко постоянно показывает героиню крупным планом: любуется ею сама и заставляет любоваться зрителя. Ученица А. Сокурова хорошо усвоила урок, как создать эмоциональную составляющую художественного образа («образ-переживание есть образ крупным планом, а крупный план - это лицо... Эйзенштейн предлагал, чтобы образ крупным планом был не просто таким же, как и остальные, но еще и способствовал эмоциональному прочтению всего фильма» [Делёз Ж., с. 110]).
Через крупный план двух актрис, исполнительниц роли Софички, видна душа этой женщины, которая прожила жизнь святого человека: в трудах и заботах о своих ближних. Ни один помысел, ни одно действие не сделали её в глазах зрителей «чужой». У Жиля Делёза в книге «Кино» есть термин анаморфический экран , когда разные виды города снимают с разных ракурсов: вертикального, горизонтального, лежачего, вровень с ростом человека. Если прибегнуть к языку паремий, то можно ввести термин-пароним - Анафорический экран . Так можно назвать любое повторение в кадре. Чередование ликов Софички, молодой и старой, не раздражает. Оно подчёркивает интерес к героини киноповествования, делает её «своей». По словам Ю. Лотмана, « так возникает любопытный парадокс. Образ человека на экране предельно приближен к жизненному, сознательно ориентирован на отдаление от театральности и искусственности. И, одновременно, он предельно - значительно более, чем на сцене и в изобразительных искусствах - семиотичен, насыщен вторичными значениями, предстаёт перед нами как знак или цепь знаков, несущих сложную систему дополнительных смыслов » [Лотман Ю., с. 84].
Достоинством кинематографической работы Киры Коваленко стал пересказ повести Фазиля Искандера «Софичка». Таким образом, киноповествование, увиденное, осмысленное и пересказанное зрителями, приобрело фасцинативное притяжение, то есть от многократного повторения истории зритель осознаёт ценный опыт, когда понимает, как чегемская девушка стала родной, «своей», той, которая становится человеком притягательным, интересным, достойным уважения. «Фасцинативное притяжение – тексты требуют многократного повторения и каждое повторение осознаётся как ценный опыт» [Карасик В.И., с. 241]. По сути дела, Кира Коваленко говорит с нами языком кинематографа и через коммуникативную кинокультурологическую точность доказывает, что среди людей любой национальности встречаются «свои», те, кто становится образцом духовного подвига [Орищенко С.С. а)].
По справедливому утверждению Ю. Лотмана, «кинематограф говорит с нами, говорит многими голосами, которые образуют сложнейшие контрапункты. Он говорит с нами и хочет, чтобы мы его понимали» [Лотман Ю., с. 91]. Если мы обратимся к кинематографическим реминисценциям, то останавливаем свой выбор на персонаже фильма Владимира Хотиненко «Зеркало для героя» (1987 г.) в исполнении Сергея Колтакова. Сын запутался во взаимоотношениях с отцом, он готов «предать» отца, оставив его доживать свой век в одиночестве. Он бросает в лицо самому близкому человеку обвинения, предъявленные к поколению родителей, которые ошиблись, не поняли, не смогли. Он готов порвать отношения с отцом и отступиться от него, но случай переносит его в далёкое прошлое: 1949 год, год рождения героя фильма. Когда сын осознаёт, что произошло с ним, он продолжает скептически относиться к поколению, восстановившему мирную жизнь после Великой Отечественной войны. Единственное, к чему он привязан в новых обстоятельствах, это родительский дом, к которому сын каждый вечер приходит снова и снова, встречает свою молодую мать, беременную им, заговаривает с ней и скрывается из поля зрения при возвращении отца с работы. Не известно, как долго блуждал бы сын в прошлом, в котором он ещё даже не успел родиться, но в один из вечеров отца арестовывают и везут на допрос. Герой потрясён этим событием, он пытается докричаться до конвоя, пытаясь убедить их, что отец не виноват, и решает в итоге оговорить себя, назвавшись американским шпионом. Когда сына тоже «приняли в воронок», тот стал задавать отцу вопросы. Главный заключался в том, почему отец никогда не рассказывал об этом эпизоде из своей жизни. Когда по просьбе отца конвоиры вытолкали сына из машины, мать родила своего мальчика. Эта уникальная метафора рождения героя, заключающаяся в прозрении и подтверждающая всеобъемлющую любовь к отцу, когда сын готов ради отца жертвовать собой, отсылает нас к взаимоотношениям Отца Небесного с Сыном Человеческим. Герой смог оценить свои взаимоотношения с отцом, благодаря лишь глубокому погружению в себя. Время позволило ему оценить возможности каждого, пережить ключевые моменты из жизни отца, чтобы прийти к единственному мнению: не судите и не судимы будете. Зеркальное отражение жизни отца, матери, людей, которые их окружали, работников шахты, где трудился отец, трепетное ожидание родителей своего ребёнка - всё всколыхнуло в герое единственное верное чувство - любовь к отцу. Это погружение помогло герою признать в отце «своего», хотя совсем недавно он пытался прервать с ним отношения, хотел отдалиться, стать «чужим». Как только герой решил задачу бытия, пережив катарсис своего земного воплощения, он понял, что отец играет в его судьбе равную роль вместе с матерью, и только тогда он смог вернуться в своё время. После возвращения он наблюдал за собой и отцом через оконное стекло, видел, что прощается с отцом по-доброму, с уважением, так, как подобает сыну. Сближает эти картины то, что и герой В. Хотиненко, и Софичка Киры Коваленко постоянно находятся на грани двух времен: молодости и зрелости. Переходы в событийном ряде свободно трансформируются от одного пространственного и временного измерения к другому. Если герой В. Хотиненко ошибается в зрелом возрасте и у него есть возможность исправить события настоящего, то у Софички «счастье» отнято смолоду. Она ничего не может исправить, изменить в своей судьбе. Верность мужу и трудолюбие будут теми опорами, которые станут поддерживать её в жизни до смертного часа, раскрывая лучшее, что было в этом человеке. Со-фичка никогда не задавала вопроса, для чего она живёт. Никогда не сетовала на судьбу, на ту дорогу, которую ей надо было преодолеть, не растеряв душевного тепла. Свои мысли и действия она сверяла только с одним собеседником - своим мужем, на могилу которого часто ходила. С ним делилась своими горестями и радостями, у него попросила прощения за то, что простила его убийцу в конце жизненного пути.
В фильме «Софичка» трагична судьба не только главной героини. Во время Великой Отечественной войны горе накрыло весь Чегем. Родной брат Софички погиб на фронте. Шамиль, брат мужа, стал дезертиром. Женщины рода жалеют его и жертвуют собой ради сына и мужа. На долю Софички выпадет много тягот за недостойное поведение деверя. Она узнает, что такое пытки в застенках НКВД, разделит судьбу свёкра и свекрови, сосланных в лагеря на поселение.
Судьба испытывает Софичку и тогда, когда она воспитывает дочь Шамиля, утратившую семью, ведь он не выдержал груза испытаний и застрелился. Девочка выросла «чужой», несмотря на все старания героини. Софичка помогала её отцу, брату мужа, скрывала его, кормила, рискуя быть расстрелянной за содействие дезертиру. Шамиль точно знал, к кому шёл за помощью, знал, кто выручит в таких обстоятельствах. Софичка из-за отзывчивого сердца балансирует на краю пропасти. В любой момент власти могут её арестовать за пособничество предателю родины. Мать и жена, узнав о побеге с передовой Шамиля радуются, что он жив. Свёкор Софички, отец Шамиля не был рад возвращению сына с войны и постоянно просил его вернуться на фронт, предвидя, какие испытания выпадут на долю семьи из-за его трусости. Снова отец, как истина, как первопричина бытия, знает о жизни всё.
Как в этих роковых обстоятельствах разграничить «своих» от «чужих»? Как оставить любовь близкому человеку, который станет причиной твоей гибели? Где граница, отделяющая одних от других? И существует ли она при таких обстоятельствах? «Свои» и «чужие» в семье – самая сложная тема. Горько терять близкого человека, но не менее горько оставаться «своей» на протяжении всей жизни, преодолевая любые испытания приносить себя в жертву. Жертвенный путь женщины – одна из глубинных тем российского кинематографа считает Р.М. Перельштейн [Перельштейн Р.М.]. В современной России как многонациональном государстве принято с уважением относиться к культуре разных народностей, населяющих страну. Так, в центре киноповествования судьба простой абхазской девушки, воспитанной в лучших традициях своего народа.
Кинотекст Киры Коваленко сложен для интерпретации, поскольку персонажи повествования говорят на абхазском языке, частично на грузинском. «Чужую» речь сопровождают «свои», русские титры. В связи с этим, хотя зритель слышит мелодику языка, он утрачивает связь с «собственным подъязыком» – (лексикой, фразеологией, паремиологией)», связанной с культурой абхазского народа [Карасик В.И., с. 233]. Значит восприятие истории идёт через другие важные элементы, на которых основывается кинокультурология, например, концепты. «Концепт – это хранящаяся в индивидуальной либо в коллективной памяти значимая информация, обладающая определённой ценностью, это переживаемая информация» [Карасик В.И., с. 107]. В Чегеме кровная месть может быть приостановлена, благодаря мнению одного из уважаемых членов семьи. Таким человеком в фильме стала Софичка. Её авторитета хватило на то, чтобы её род не мстил за убийство мужа. Клан изгнал из села убийцу, но не преследовал его, чтобы тот был наказан и расплатился кровью. Более того, в будущем изгнанный станет героем Великой Отечественной войны и прославит край, в котором родился. Он не вернётся в Чегем, но будет достоин рукопожатия своих близких. Только Софичка будет сохранять неприязнь к убийце мужа. Прощение к нему придёт в последние минуты её жизни. Простив, она отходит в мир иной, поскольку клялась мужу на смертном одре, что никогда не простит его убийцу. Она даже подумывает, что смертный час пришёл из-за того, что она нарушила обещание, данное супругу. Но это не так: Софичка не была бы сама собой, если бы поступила иначе. На пороге вечности она вновь доказывает, что достойна звания человека, достойна встречи с Богом. Мы понимаем, что «образ человека входит в искусство кино как целый мир сложных культурных знаков» [Лотман Ю., c. 46]. Каждый из этих знаков необходимо декодировать. В итоге зритель любуется образом Софички, видя в нём «свою» при любых жизненных испытаниях.
Выводы . Кира Коваленко знакомит нас с образом абхазской девушки, которая вызывает восхищение и у «своих», и у «чужих. Режиссер в данном киноповествовании совмещает географический, исторический и психологический пласты. Каждый из них характеризует отдельную грань в характере Софички. Используя с этой целью разные стилистические приемы, в т.ч. «анафорический экран», лингвистический (герои говорят на национальном языке), с субтитрами – К. Коваленко добивается нужного эффекта зрительского восприятия: путь простой чегемской девушки вызывает бесспорное уважение, поскольку вмещает в себя всё лучшее, что свойственно культуре абхазского народа.
Список литературы «Свои и чужие» в творческой мастерской Киры Коваленко
- Делёз, Ж. Кино / Пер. Б. Скуратов. - М.: Ад Маргинем - 2019. - 560 с.
- Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепт, дискурс: Монография / В.А. Карасик. - Волгоград: Перемена, 2002. - 477 с. EDN: UGQAMP
- Лотман, Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. Лотман. - Таллинн: Изд.-во Ээсти Раамат, 1973. - 135 с.
- Орищенко, С. С. К вопросу о кинокультурологии как новой отрасли гуманитарных знаний: проекции и взаимосвязи // Вестник Челябинского государственного университета. - 2022. - № 5 (463). - С. 52-58.
- Орищенко, С. С. "Свои" и "чужие" как предмет культурологического познания: концепты, образы, проекции и взаимосвязи // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия "Познание" в номере: Культурология. Психология. Философия. - 2022. - №3 - С. 20-26.
- Ракитов, А. И. Цивилизация, культура, технология, рынок // Вопросы философии. - 1992. - №5. - С. 3-16.
- Перельштейн, Р. М. Конфликт "внутреннего" и "внешнего" человека в киноискусстве / Р.М. Перельштейн. - С.-Пб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 255 с.