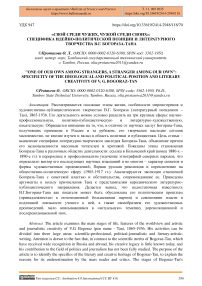«Свой среди чужих, чужой среди своих»: специфика идейно-политической позиции и литературного творчества В. Г. Богораза-Тана
Автор: Протасова О.Л.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основные этапы жизни, особенности мировоззрения и художественно-публицистического творчества В.Г. Богораза (литературный псевдоним – Тан), 1865-1936. Его деятельность можно условно разделить на три крупные сферы: научно- профессиональную, политико-публицистическую и литературно-художественную, писательскую. Обращается внимание на то, что, в отличие от научных заслуг Богораза-Тана, получивших признание в России и за рубежом, его творческое наследие сегодня малоизвестно, не вполне изучен и вклад в область политики и публицистики. Цель статьи – выявление специфики литературно-творческого наследия Богораза-Тана, объяснение причин его недооцененности массовым читателем и критикой. Показаны этапы становления Богораза-Тана в различных областях деятельности: ссылка в Колымский край (конец 1880-х – 1890-е гг.) и переросшее в профессионализм увлечение этнографией северных народов, что определило вектор его последующих научных изысканий и во многом – характер сюжетов и формы художественных произведений; Первая русская революция и переключение на общественно-политическую сферу (1905-1917 гг.). Анализируются эволюция отношений Богораза-Тана с советской властью и обстоятельства, сопровождавшие ее. Приведены аргументы в пользу причисления Тана к представителям народнического литературно- публицистического направления. Делается вывод, что недостаточная известность В.Г.Богораза-Тана как писателя может быть обусловлена его политическим прошлым (принадлежностью к оппозиционной большевикам партии) и сомнениями власти в подлинной лояльности ученого к ней, а также своеобразием его художественных произведений, мало вписывавшимся в «актуальную» тематику дореволюционной и послереволюционной эпох.
Богораз-Тан, народничество, литература, публицистика, политика, этнография, советская власть
Короткий адрес: https://sciup.org/14133819
IDR: 14133819 | УДК: 947 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/70
Текст научной статьи «Свой среди чужих, чужой среди своих»: специфика идейно-политической позиции и литературного творчества В. Г. Богораза-Тана
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 947
Сумма достижений российской культуры – результат деятельности не только виднейших ее творцов, получивших громкое мировое признание, но и множества акторов «второго плана», по разным причинам недооцененных в свое время либо забытых позже. Интерес современных исследователей к таким персоналиям объясняется, конечно, профессиональными заслугами последних, но и, зачастую не в меньшей степени, особенностями их биографий – сложным, интересным жизненным путем, охватывающим разные эпохи, смену социально-политических систем в истории нашей страны, собственное восприятие которых они запечатлели в мемуарах и публицистике. К числу таковых может быть отнесен и Владимир Германович Богораз-Тан (1865-1936), человек незаурядного дарования, огромной энергии, многочисленных интересов, активной гражданской позиции и непростой судьбы.
Популярный в настоящее время жанр «травелог», в своей идеологической составляющей затрагивающий колониальную / постколониальную и этнокультурную тематику, вполне может считаться обогащенным произведениями, вышедшими из-под пера народника-этнографа Богораза-Тана. Особое место в его творчестве занимают сочинения, посвященные Северу, который он отлично знал и, несмотря на печальные обстоятельства, приведшие к столь близкому «знакомству», искренне любил. По отзывам критиков, именно северный цикл Богораза-Тана является наиболее ценной частью его научно-литературного наследия, поскольку сочетает в себе и большую познавательную ценность, и бесспорные художественные достоинства [1].
О Богоразе-Тане опубликовано немало интересных работ [2-6], однако они посвящены почти исключительно научно-исследовательской стороне его деятельности. Последняя, на наш взгляд, достойна еще более разностороннего изучения с применением междисциплинарного подхода, в том числе с позиций культурфилософии.
О Богоразе-Тане как политике вспомнили в постсоветский период, с ростом внимания к народно-социалистической партии, в которой он несколько лет состоял. Тан-литератор же, по существу, до сих пор не нашел своего исследователя, как не обрел, увы, и широкого читателя [7, 8].
Материалами для данного исследования преимущественно служат произведения политической публицистики, вышедшие из-под пера В. Г. Богораза-Тана, позволяющие сделать выводы о специфике его политико-идеологической позиции (включая сложности партийной самоидентификации, сомнения и ориентиры), об отношении к современным ему социально-политическим реалиям и ключевым политическим фигурам конца XIX – начала ХХ в. Ценными источниками являются также научные этнографо-культурологические и художественно-литературные работы Богораза-Тана, отражающие не только направленность его творческой мысли, но, хотя и косвенно, даваемую Таном оценку тенденций национальной политики России, а затем СССР. Все вышеупомянутые исследовательские материалы дают основания для причисления Тана к представителям народнического литературнопублицистического направления. Историографическая база исследования не столь обширна, поскольку советские и постсоветские авторы концентрировали свое внимание в основном на получившем международную известность научном наследии В.Г. Богораза-Тана, но не на его беллетристике и тем более политической деятельности. Однако ряд важных аспектов, касающихся общественного активизма Тана, раскрывают и они. Особенно следует выделить труды Н. Ф. Кулешовой, Е. А. Михайловой, М. М. Шахновича, В. В. Огрызко, С. Кана, в которых, помимо сугубо фактографической информации, затронута «человеческая», психологическая сторона проблемы – Богораз-Тан показан как личность на фоне и в контексте своей эпохи, жесткой, противоречивой, переменчивой.
Исследовательские методы, применяемые в статье — биографический, контент-анализ источников и исторической литературы, интент-анализ, компаративный (сравнение и сопоставление), анализ, синтез.
Натан Менделевич Богораз, более известный как Владимир Германович Богораз-Тан, родился в апреле 1865 г. в городке Овруч Волынской губернии в небогатой еврейской семье, вскоре перебравшейся в Таганрог. Литературный псевдоним Н.А. Тан, который впоследствии взял Богораз, означал, во-первых, расчлененное имя Натан, а, во-вторых, был связан с городом его детства: раньше Таганрог выговаривали как «Тананрог», от старого названия реки Дон – «Танаис». В своей автобиографии, написанной уже при советской власти, в 1926 г., Богораз называет главные вехи своей жизни, намеренно придавая повествованию легкую, даже самоироничную форму как бы для оправдания собственных идейных заблуждений прошлого. Политикой он заинтересовался в гимназические годы, а. с 1882 г., уже студентом Петербургского университета, по его собственным словам, «завяз» в ней, вскоре познакомившись с полицейскими санкциями – высылкой и арестом.
В 1885 г. Богораз из практических соображений принял православие и, вместе с ним, новые имя и отчество (последнее – в честь крестного отца). Сам он объяснял, что, окрестившись, не отказался от своих еврейских корней, но стал как бы носителем сразу двух культур – еврейской и русской. «…Я чувствую себя беллетристом и этнографом, русским революционером и русским интеллигентом, европейцем, участником западно-восточной культуры» [9], – с гордостью заявлял Богораз. Вопрос перемены религии молодого народника не волновал: религиозностью он никогда не отличался, а со временем и вовсе сделался убежденным атеистом.
Причастность Богораза к «Народной воле» (он примкнул к организации в последние месяцы ее существования, в 1885 г.) повлекла за собой новый арест (1886), заключение в Петропавловскую крепость и, по приговору суда (1889) ссылку в Колымск на десять лет. На Колыме, куда, по расхожей у ссыльных поговорке, «ворон костей не заносит» [10, c. 8], и началось настоящее становление В.Г. Богораза-Тана как ученого-этнографа. Жизнь ссылки проходила в борьбе не столько с полицейским надзором, сколько с суровой природой, ежевесенним голодом, «привычным и потому нестрашным». Ссыльные представляли для местных «Мудреную Русь», или «город Российск», назывались «государственными людьми»
и несли на крайний Северо-Восток атрибуты цивилизации: сахар, чай и табак, «шамана в трубе» (граммофон), «наложенную на бумагу человеческую тень» и пр. Необоримая любознательность, вкупе с ограниченным кругом «цивилизованного» общества, привела Богораза к тесному знакомству с коренными народами Колымского края и потомками казаков – давними насельниками этих мест, перемешавшимися с оседлыми племенами рыболовов и говорившими по-русски на странном наречии, «картавом и сладком, похожем на лепет отсталых детей и на шелест птичьих крыльев…» [10, c. 13]. В течение трех лет он кочевал с чукчами, называвшими самих себя «неумытым народом», разделял их образ жизни, питался их пищей, часто «несолоно хлебавши» – без соли и хлеба, и даже проник в некоторые «технологии» шаманизма. Тогда же, в ссылке, началась «проба пера» Тана – писателя и публициста. Набранный им этнографический материал получил одобрение Академии Наук, а товарищи по литературному цеху дали Тану прозвище «дикая чукча» [9].
На рубеже веков Богораз-Тан по приглашению американских антропологов принял участие в Джесуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции под руководством Франца Боаса. По ее окончании, с 1901 г. по 1903 г., Богораз работал куратором Нью-Йоркского Музея естественной истории. В это время он написал художественные произведения разных жанров: очерки (сборник «Духоборы в Канаде»), «палеолитические» рассказы о жизни северных народов до прихода к ним русских, романы («Восемь племен», «За океаном»). Вернувшись в Россию в 1904 г., он создал еще несколько заметных работ: фантастические романы «Жертвы дракона» и «Завоевание мира», повесть «Крылоносный Икар». В этот период Тан старался и в научной, и в художественной формах показать, что жизнь сотен малочисленных этносов, остающихся первобытными на начало ХХ века, служит яркой иллюстрацией долгого и трудного пути, пройденного всеми без исключения народами Земли, что «судьба человека первобытного и… современного подчинены одним и тем же законам» [11, c. 8]. Он призывал с уважением относиться к обычаям и чувствам представителей «несчастных», застрявших в дикости племен, к уже проделанной ими разнообразной и сложной культурной работе, к духовному труду, о котором «мы… забываем в своей городской кичливости», в то время как «нам нечем особенно гордиться перед дикарями. Мы тоже достаточно дики и грубы, хотя и летаем на аэроплане» [11, c. 9].
Ранний этап художественного творчества Тана был принят, по большей части, благосклонно: его «Колымские рассказы» (город Колымск первоначально в них был назван Пропадинском), за короткое время трижды переизданные, понравились В. Г. Короленко – именитому народническому писателю, редактору журнала «Русское богатство». Короленко, признавая крайне тяжелые обстоятельства начала писательского пути Тана, отметил оригинальность, правдивость и запоминаемость представленных им картин «своеобразного неведомого быта», хотя попенял ему за «излишнюю этнографичность», выражавшуюся в «сухости, длиннотах, повторениях», чрезмерной «фотографичности снимков» [12]. Зато столь почитаемый народниками реализм в литературе – поданные в сдержанной манере картины ужасающе убогого быта, безропотной и мужественной борьбы людей с суровой природой («Кривоногий», «На мертвом стойбище» и др.), симпатия автора к своим героям – в полной мере был представлен в «северно-восточном» цикле Тана. Заинтересовался работами литератора-этнографа и А. П. Чехов, попросивший выслать ему книгу Тана в Ялту: «я о ней слышу и читаю много хорошего, а купить негде…» [12]. Лингвист А. А. Шахматов акцентировал внимание на художественных достоинствах прозы Богораза-Тана, особенно понравился ему роман «Восемь племен». Будущий же советский нарком просвещения А. В. Луначарский хвалил Тана за идейную направленность, левые настроения, которые он обнаружил в романе «За океаном». Поэзия Тана вызвала симпатию В. Брюсова, а вот П. Ф.
Якубович (литературный псевдоним – Л. Мельшин) считал, что Тан «поэт неудачный», так как «главное значение в поэзии придает чувству» [12]. Тем не менее, сборник «Стихотворения» за первое десятилетие ХХ в. переиздавался четыре раза: тематика и патетика стихов Тана были созвучны массовым настроениям той поры.
Тан, в ответ на упреки в «натурализме», недостатке авторской фантазии, обозначил свое понимание качественной беллетристики: «…Я не считаю авторский вымысел безусловно необходимым для повести… Жизнь составляет свои повести и развивает трагедии…особенно русская жизнь, черная и страшная, вечно насыщенная грозою… Изменить что-нибудь было бы преступлением не только против истины, но и против художественного вкуса» [13].
В 1905 г. жизнь Богораза-Тана сделала крутой вираж: он «нырнул» в события Первой русской революции, отодвинув науку на задний план [14, c. 444] и самоопределившись политически. Осенью 1906 г. Тан вошел в организационный комитет народносоциалистической партии, НСП, занявшей в партийном спектре страны позицию между эсерами и кадетами, без радикализма первых и сугубо либеральной ориентации вторых. Отказ умеренных народников от нелегальных форм деятельности, искреннее желание содействовать трудовому крестьянству в борьбе за его права и, без всякого аристократического высокомерия, помочь в деле культурного развития – все это импонировало Тану, демократу по натуре. Не изменяло ему и творческое вдохновение: Тан начал писать не только прозу, но и стихи; некоторые из них стали текстами революционных песен: «Вся наша жизнь есть труд кровавый», «Песня ссыльных», «Красное знамя» и пр.
В эти годы Богораз, вовлеченный в политику и увлеченный ею, много путешествовал по стране, восполняя дефицит своего «живого» знакомства с реалиями российской глубинки; эти наблюдения легли в основу цикла очерков «Новое крестьянство» [15, c. 84]. Яркую публицистическую работу Тан посвятил Учредительному съезду Всероссийского крестьянского союза (ВКС), нелегально проходившему в Подмосковье 31 июля – 1 августа 1905 г. Рисуемая журналистом картина заседания, проводившегося в большом сарае, говорит о его неподдельном уважении к этим людям с широкими… бородами, суровыми глазами, морщинистыми лбами и мозолистыми руками [15, c. 95-96]. Произвели на Тана впечатление и сельские интеллигенты – крестьяне, получившие увечья: их работоспособность, замечает автор, «ушла в голову», неспособность к физическому труду компенсировалась «чтением и размышлениями».
Во время работы I Государственной Думы (1906-1907) Богораз-Тан входил в ее журналистский корпус. Он наблюдал за происходящим в парламенте, оценивал думский персональный состав, находил интересные типажи. Особенно интересовали его трудовики – депутаты от крестьянства, получившие в двух первых Думах солидное число мест (!02 депутата в I и 104 депутата во II Думе – прим. автора) и составившие целую фракцию (Трудовая группа). «Не дразните их сверх меры… Чего доброго, засучат рукава и подадут сигнал к всенародной драке» [16, c. 3], – передавал настрой крестьян-думцев Тан. Однако неудачи думской оппозиции, как и организационная беспомощность собственной партии, в 1908-1916 гг. фактически распавшейся на малочисленные периферийные группы, разочаровали его.
Государственный курс в период т.н. «третьеиюньской монархии» (или, как было принято его именовать в советской историографии, реакции) ни у кого из социалистов не вызывал одобрения. Тан не был исключением: внутриполитическая обстановка навязывала всем, по его выражению, роль граммофона: «что жизнь поиграет, то и выпеваю» (1, ф. 225, к. 2, д. 4, л. 1).. Настоящих, независимых гражданских позиций, отмечал он, почти не осталось и «люди как в воздухе повисли, ножку занесут и посмотрят, а ступить некуда» (там же). В то же время реакцию он сравнивал с побитой молью львиной шкурой: «посмотреть, так страшно, а тронешь рукою, шерсть лезет» (там же).
В годы I мировой войны Богораз-Тан занимал оборонческую позицию (позже он назовет ее «патриотическим угаром»), куда более резкую, чем у однопартийцев, в конечном итоге приведшую к разрыву с ними [7]. Он отправился на передовую, вплоть до 1917 г. служил в санитарном отряде, был военным корреспондентом газеты «Биржевые новости» [5, c. 118]. Политика Временного правительства, особенно внутренняя, виделась ему нерешительной и пассивной [7]. К народным социалистам Богораз так и не вернулся, хотя в июне 1917 г. они воссоздали партию, объединившись с трудовиками, разработали предвыборные платформы в органы местного самоуправления и Всероссийское Учредительное собрание (а ведь мнение этнографа, особенно по национальному вопросу, могло быть весьма ценным при выстраивании партийной линии!).
Октябрьский переворот 1917 г. Богораз встретил, по выражению, принятому в советской историографии, «враждебно». Большевизм для части России – той, что неграмотна и неспособна критически мыслить, по его мнению, принял некую религиозную форму. Как христианство разрушило античную римскую цивилизацию, так большевизм разрушит Россию, написал Тан в первые послеоктябрьские месяцы [8, c. 445]. Однако он остался на родине, в полной мере познав ужасы голода и гражданской войны. В 1921 г. умерла его жена, не во всем понимавшая и разделявшая интересы своего неугомонного супруга, но бывшая его надежным другом, настоящим тылом [5, c. 121-122]. Те из демократов-небольшевиков, кто не покинул Советской России, по словам идеолога энесов А. В. Пешехонова, превратились в обывателей [17, c. 25-27], вынужденные полностью отстраниться от политической сферы. Богораз-Тан нашел для себя место в строящемся обществе: у него была наука, куда он вернулся после многолетнего перерыва «на политику». С 1918 г. он работал в Музее антропологии и этнографии, в 1923 г. стал у истоков Комитета содействия и защиты малых народностей Севера и Сибири, деятельность которого повлекла за собой создание в 1930 г. Института народов Севера, разработал алфавит чукотского языка. В 1932 г. Богораз инициировал открытие музея истории религии при АН СССР, которым руководил до конца жизни. Он называл себя «воинствующим безбожником», и ВКП(б) с ее атеистическим курсом такая позиция вполне устраивала.
Стиль, которым написана автобиография Богораза-Тана, и содержащиеся в ней признания, относящиеся к зрелым годам, указывают, как выразились бы непримиримые противники советской власти в зарубежье, на «капитулянтство» перед большевиками. Чего стоят, в частности, такие слова: «Вместе с другими я… мелодекламировал о верности союзу с «державами», злопыхательствовал и ненавидел… А теперь, к первому десятилетию революционной годовщины… готов благословлять… за собственную чистку» [9].
30 декабря 1922 г. был образован СССР. Государственный курс на хозяйственное освоение территорий и развитие народов бывших «окраинных» земель требовал использования знаний и опыта специалистов-этнографов. Научный багаж Богораза-Тана становился очень актуален. Ряд исследователей приходят к выводу, что к этому моменту бывший умеренный социалист встал на сменовеховские позиции [7]. Вероятно, в середине 1920-х гг. он искренне считал себя примирившимся с новой политической реальностью. Научные связи Богораза, знание языков, опыт жизни в самых разных местностях могли бы помочь ему устроиться, если бы он этого захотел, за границей. Однако желание жить и работать на родине, заниматься любимым делом, избегая преследований за прошлую оппозиционность, диктовало необходимость выказывать лояльность новой власти в публичном пространстве.
Вероятно, поэтому бывший народник старательно подчеркивал свое духовное «обновление», состоявшееся благодаря вовлеченности в процесс строительства советского государства. «Перевалив на седьмой десяток… я счастлив… не тем, что я пережил целых три российских революции, ...- что... теперь, когда строят, я строю с другими» [9], - такими словами завершал свою автобиографию Богораз-Тан. Поскольку к концу 1920-х гг. аполитичный человек от литературы начинал казаться подозрительным, в 1928 г. Тан выпустил роман «Союз молодых», в котором, среди прочих сюжетных линий, повествуется о революции и создании комсомольской организации на Колыме. Как и прочие произведения Тана-писателя, он был основан на документальном материале, полученном автором письменно и лично от свидетелей и участников описываемых событий, «пропитанных жутью и кровью» [10, c. 9]. Критика впоследствии назвала это сочинение «слабым с художественной точки зрения» [12]. К своим трудам и сам Тан был строг: он признавал чрезмерную сжатость их формы при переполненности событиями и фактами, оценивал их как «скорее подробные конспекты, сгущённые экстракты, которые следовало бы развести… водой психологии и дать побродить» [12], а на эту работу у него, по его признанию, не хватало терпения. Последний роман Тана «Воскресшее племя», вышедший в свет в 1935 г., по оценке критиков, в полной мере грешил этими недоработками, более напоминая наброски научно-популярной лекции, чем завершенное художественное произведение [1, c. 183]. Зато он имел явную идеологическую направленность, повествуя «о возрождении после революции самого несчастного из северных племен» – юкагиров.
Со второй половины 1920-х гг. заниматься общественными и гуманитарными науками в СССР становилось делом рискованным. К счастью для Богораза, изучение специфики жизни «первобытных» народов не показалось ему идеологически опасным занятием: у сибирских и дальневосточных аборигенов отсутствовали классовые отношения. Он помнил, что даже в царские времена у власти не было претензий к его исследовательской деятельности, в отличие от политико-публицистической. Однако, несмотря на самоотречение от политики, в полной безопасности Богораз себя чувствовать не мог: все бывшие антибольшевики находились под пристальным наблюдением спецслужб. «Свидетельствовали» против этнографа и его контакты с зарубежным научным сообществом. Вскоре начались проблемы профессионального характера. В 1928 г. Богораз не был избран в Академию наук [18, c. 201]. Этнограф оказался заложником своего прошлого: он-де «начал свою научную работу, будучи народником и тем самым сторонником русской школы субъективной социологии…» [19]. Чтобы опубликовать в СССР работы своего друга Ф. Боаса, Богоразу пришлось сопроводить их резко критическими комментариями [18, c. 192]. Возможности работать за совесть, а не за страх становилось все меньше, и в середине 1930-х гг. Богораз, судя по его переписке с Боасом, стал помышлять о выезде из СССР [12]. Впрочем, сомнительно, что во времена «закрытия» государственной системы и развертывания репрессий ему удалось бы совершить задуманное, а 10 мая 1936 г. Богораз скоропостижно скончался.
Заключение
Как обозначить идейную позицию В. Г. Богораза-Тана? Его взгляды были шире, чем какое-то из конкретно-политических направлений. От сотоварищей по политическим взглядам и литературному цеху его отмежевывали условия и обстоятельства социализации. Взросление Богораза происходило в промышленном городе, окончательное становление личности – среди народов-автохтонов Северо-Востока и потомков «колонизаторов» – казаков, которые за два-три века так ассимилировались с местным населением, что энергично отрицали свою «русскость»: «Какие мы йуские? Мы так себе, койимский найод» [10, c. 5]. Однопартийцы Богораза, как правило, имели иную жизненную школу: в провинциях Европейской России, в качестве земских служащих – статистиков, учителей, врачей. Даже те из них, кто прошел ссылку и каторгу, жили все-таки в местностях с преобладанием русскоязычного более или менее цивилизованного населения. Прозвище «дикая чукча», данное товарищами Тану, свидетельствует о четко осознаваемых ими отличиях – в привычках, манерах, вкусах – его от них. Пребывание в Америке и Европе в начале ХХ в. также не могло не отразиться на мировосприятии Тана: политический активизм, захвативший его и оторвавший на десяток лет от этнографии, наверняка в значительной степени был следствием обаяния узнанной им там гражданской культуры. Сделав организационный выбор в пользу НСП и вплотную работая с трудовым крестьянством, Богораз выступил по умолчанию как социалист-народник, однако его мировоззрение оказалось слишком разноплановым, чтобы в точности совпасть с энесовским курсом, ориентированным на сугубо российскую коллективистскую «почву». По собственным словам Богораза, он был «еретиком» в любом из известных на тот момент политических станов: свойственный ученому критический образ мысли, отточенный в кросскультурном пространстве, независимый, неконформный нрав – все это заставляло его формировать свое восприятие явлений и процессов, не подчиняясь всецело какой-то конкретной доктрине, даже симпатичной ему. Заметная идейная обособленность Богораза отражалась и на его сдержанных отношениях с литературно-публицистическим оплотом умеренного неонародничества – редакцией журнала «Русское богатство». Можно сказать, что идеологический статус Богораза был пограничным, совмещавшим в себе эволюционносоциалистические и леволиберальные начала.
Правомерно ли причислять Тана-литератора дореволюционной поры к народническому направлению? По нашему мнению, да, хотя и условно, как бы «на ассоциативных началах». Основание этому дают темы и форма подачи его художественных и публицистических произведений, ориентированных, пожалуй, в первую очередь на молодого читателя, наконец, организационная принадлежность к народническому лагерю.
Этнокультурную проблематику можно образно назвать «товарным знаком» народнической литературы. Начало ей дал Ф. М. Решетников, в 1860-х гг. создававший этнографические зарисовки Урала, Пермского края, западных районов империи. Интерес к окраинным землям, проблемам их населения свойствен и народнической публицистике последних десятилетий XIX – начала ХХ вв. Особым спросом пользовалась «колониальная», сибирская повестка, представленная в беллетристике сибирскими уроженцами – областниками (А. П. Щапов, Н. И. Наумов, Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев и др.) и народническими авторами, познакомившимися с Сибирью по каторге и ссылке (В. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевский, П. Ф. Якубович и др.). Но бытописателей Сибири было достаточно много, а повествователь – эксперт в вопросах культуры Крайнего Северо-Востока всего один – Тан. Он признавался, что ничего не придумывал, только комбинировал, заимствуя образы, легенды, рассказы у разных племен [11, c. 9]. В сочинениях Тана, при информативной насыщенности, нет оценочных комментариев, философской поучительности, замаскированных под сочувствие ноток превосходства человека цивилизации над дикарями. Его работы отличаются скрупулезной точностью описания «кухни», языка, картин быта и обрядов северных туземцев, свидетельствующих о господстве у них «коллективных представлений», отсутствием сентиментальности (такая кажущаяся бесстрастность порой дает сильный эффект). В последнем кроется сходство собственного характера автора, закаленного странствиями и невзгодами, с суровыми нравами сибиряков и северян, которым, как и героям Тана, некогда раздумывать, им надо действовать, чтобы выжить.
Объяснить причины того, почему Богораз-Тан – беллетрист, несмотря на свою уникальность в писательском сообществе, не нашел популярности у массового читателя и не получил безусловного одобрения критики, думается, можно следующим образом.
Во-первых, тематика его художественных произведений, выражаясь современным языком, – «на любителя». Когда они создавались, такая «экзотика» не была в ходу: людей занимали куда более насущные вопросы остросоциального характера: революции, войны, народные страдания... Сцены из жизни нецивилизованных народов не затрагивали напрямую жизненных интересов «метрополии», а, значит, не могли найти у широких масс искреннего отклика. Определенной части социума гораздо более заманчивыми представлялись тематика и эстетика «серебряного века», эротизм и надлом, декаданс, либо просто «чистая» поэзия и увлекательная проза, где господствовала бы не идея, а романтика, красота. Получалось, что большинству «простых» людей сочинения Тана казались слишком непонятными, а в глазах эстетствующей публики его «дикие» герои и их чувства, к тому же описанные довольно скупо, выглядели чересчур примитивно. Для эпохи, к которой относится позднее творчество Тана, его книги также были «элитарны»: образование в рамках ликбеза не выводило молодежь на уровень интересов такого характера. Развитие же национальной литературы народов СССР, сопровождавшееся знакомством с их этнокультурными особенностями, началось позже – в основном в послевоенные годы.
Во-вторых, стиль писателя также мог быть воспринят читателями неоднозначно. Привычка к созданию научных трудов сказывалась и на манере изложения материала, «грешившей» недостаточной художественной обработанностью; человек с его внутренним миром явно уступал по силе раскрытия бытовым деталям и динамике сюжета, что давало повод обвинять Тана в излишнем натурализме, предпочтении бихевиоризма психологизму и т.п.. При этом, однако, надо отдать должное Тану: хотя он специально не обучался филологии, его слог даже сегодня не выглядит архаичным или тяжеловесным, он читабельнее манеры письма тех народнических публицистов, что не работали с художественным словом.
В-третьих, политический «бэкграунд» Тана, его путешествия по миру, «космополитизм» начала 1900-х гг. и последующие тесные связи с зарубежными коллегами, участие в антибольшевистской организации (народно-социалистической партии), неприятие советской власти сразу после ее установления определили отношение к нему со стороны Советов как условно-доверительное, постепенно становившееся все более подозрительным. Между тем в 1920-30-е гг. выполнялась ленинская установка о том, что «литература должна стать партийной». Поэтому поздний этап литературного творчества Тана более политизирован, чем даже народнический (1905-1917), когда журналистское перо приводило его в качестве ответчика на десятки судебных процессов. Однако попытки Тана «встать в строй» подлинно советских писателей, очевидно, в глазах партии выглядели недостаточно убедительно, ведь полного отождествления своего мироощущения с настроем советского социума, а тем более его руководства, у этнографа так и не произошло.
«Свой среди чужих, чужой среди своих» – таким образом можно определить положение Богораза-Тана и в творческой, и в политической среде на протяжении почти всей его жизни. Ему удалось стать «своим» как для аборигенов Камчатки, Чукотки и Колымы, живших первобытным строем, так и для международного сообщества первоклассных ученых – этнографов, антропологов, культурологов – обладавших энциклопедическими знаниями. При этом, однако, он не сумел вполне вписаться в политико-культурный мир соотечественников – казалось бы, идейных единомышленников; наособицу, увы, остался он и среди коллег по профессии в советское время. Обвинять его в этой невольной «маргинальности» было бы несправедливо: так сложилась жизнь, не в последнюю очередь под влиянием внешних факторов, прежде всего политической конъюнктуры. Политика вообще прямо и косвенно сыграла ключевую (или роковую?) роль в жизни В.Г. Богораза-Тана, сначала заинтересовав собой и сделав оппозиционером-подпольщиком, затем направив по научно-профессиональному пути, в 1905-1917 гг. полностью подчинив себе, а в послеоктябрьский период – заставив примениться к новой государственной системе ценой свободы творческой мысли.
Тан-писатель, несмотря на свою «второплановость» в длинных рядах литературной России, оригинален и самобытен. Он гуманист и межкультурный посредник. При всех идейно-творческих исканиях, изломах судьбы интерес и любовь к российскому Северо-Востоку, искренняя забота о его населении оставались для В.Г. Богораза-Тана константой всегда, на разных жизненных этапах. Об этом постоянстве красноречиво свидетельствуют как его научная практика, так и сюжеты большинства романов и повестей.
Источник:
-
(1 ). Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 225. К. 2.
Source:
-
(1 ). Nauchno-issledovatel'skii otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki (NIOR RGB). F. 225. K. 2.