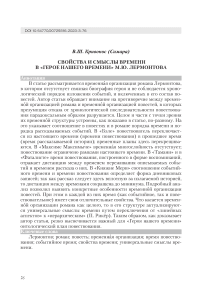Свойства и смыслы времени в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова
Автор: Кривонос В.Ш.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается временная организация романа Лермонтова, в котором отсутствует связная биография героя и не соблюдается хронологический порядок изложения событий, и включенных в его состав повестей. Автор статьи обращает внимание на противоречие между временной организацией романа и временной организацией повестей, в которых презумпция отказа от хронологической последовательности повествования парадоксальным образом разрушается. Целое и части с точки зрения их временной структуры устроены, как показано в статье, по-разному. На это указывает соотношение в повестях и в романе порядка времени и порядка рассказываемых событий. В «Бэле» повествователь переключается из настоящего времени (времени повествования) в прошедшее время (время рассказываемой истории); временные планы здесь перекрещиваются. В «Максиме Максимыче» временная многослойность отсутствует; повествование ограничено рамками настоящего времени. В «Тамани» и в «Фаталисте» время повествования, построенного в форме воспоминаний, отражает дистанцию между временем переживания описываемых событий и временем рассказа о них. В «Княжне Мери» соотношение событийного времени и времени повествования определяет форма дневниковых записей; так как рассказ следует здесь вплотную за излагаемой историей, то дистанция между временами сокращена до минимума. Подробный анализ позволил выявить конкретные особенности временной организации повестей. При этом в каждой из них время (как событийное, так и повествовательное) имеет свои отличительные свойства. Что касается временной организации романа как целого, то в его структуре актуализируются универсальные смыслы времени путем переключения от «линейных аспектов» к «иерархическим» (П. Рикёр). Таким образом, как доказывает автор статьи, резко высвечивается важный для «Героя нашего времени» онтологический план повествования.
Лермонтов, роман, повесть, временная организация, время повествования, событийное время, свойства времени, универсальные смыслы времени
Короткий адрес: https://sciup.org/149143550
IDR: 149143550 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-76
Текст научной статьи Свойства и смыслы времени в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова
Lermontov; novel; story; temporary organization; story time; event time; properties of time; universal senses of time.
В «Герое нашего времени», как давно было отмечено, «единство героя не связано с единством интриги», почему в изложении и расположении «сообщенных событий» не соблюдается «хронологический порядок» [Эйхенбаум 1989, 267]. В построении романа, разбитого на ряд повестей, соединенных «неизменным присутствием и участием героя», где отсутствует и его связная биография, и «сплошная фабула» [Эйхенбаум 1989, 267], закономерно не просматривается и «биографически-хронологиче-ская перспектива» [Дрозда 2014, 345]. Между тем в составивших роман повестях, представляющих собой сюжетно завершенные и хронологически локализованные истории, презумпция отказа от хронологической последовательности повествования парадоксальным образом разрушается. (Ср.: «...парадокс – будь то парадоксальное суждение (мнение) или парадоксальный факт – есть разрушение некоей презумпции…» [Успенский 1982, 161]). Возникает противоречие между временнóй организацией романа и временнóй организацией повестей, поскольку целое и части, как выясняется, имея в виду указанное противоречие, устроены по-разному.
Обратимся к повестям и рассмотрим, как соотносятся в каждой из них «порядок времени рассказывания» и «порядок рассказываемых событий» [Тодоров 1975, 55]. Или, согласно другой формулировке, «время повествования» и «время истории» [Женетт 1998, 69].
В «Бэле», как и в «Максиме Максимыче», рассказ ведется от лица повествователя, пишущего, как он подчеркивает, объясняя вынужденную остановку в повествовании, «не повесть, а путевые записки» [Лермонтов 1957, 225]. Правда, историю Бэлы, поведанную ему Максимом Максимычем, он назовет все же, признав тем самым и ее повестью, «первым звеном длинной цепи повестей» [Лермонтов 1957, 239]. Все рассказанные им повести, будучи сюжетно и хронологически связанными, обладают, имея собственные начало и конец, строго определенной временнóй длительностью. (Ср. замечание, что всякое событие, о котором рассказывается, «обладает протяженностью во времени» и является «звеном некоторой более значительной длительности» [Тюпа 2006, 303]). При этом в «Бэле» различные временные планы перекрещиваются: из настоящего времени (времени повествования) повествователь, превращаясь в слушателя Максима Максимыча, переключается в прошедшее время (время рассказываемой штабс-капитаном истории Бэлы), которое представляет собой, имея в виду воскрешение событий прошлого в памяти рассказчика, время воспоминаний (см.: [Рикёр 2000, 307]), и всякий раз вновь возвращается в настоящее время повествования. В «Максиме Максимыче» подобная временнáя многослойность отсутствует; повествование ограничено исключительно рамками настоящего времени. (Речь о временнóй позиции повествователя, а не об используемых им глагольных формах времени; грамматические времена могут в рассказе чередоваться. Ср.: [Успенский 1995, 95–98]).
Повествователь в «Бэле» выступает в роли слушателя Максима Максимыча, волею случая оказавшегося его дорожным попутчиком; от услышанной им истории его отделяет временнáя дистанция, которую он стремится преодолеть, задавая вопросы, вызванные желанием разговорить старого кавказца, чтобы узнать о каком-нибудь бывшем с ним приключении, и призванные раскрыть подробности и уточнить детали описываемых событий, а также подтолкнуть повествование, учитывая задержки в его развитии, вперед и по возможности ускорить. Ср.: «А, чай, много с вами было приключений? – сказал я, подстрекаемый любопытством» [Лермонтов 1957, 207]; «А долго он с вами жил? – спросил я опять» [Лермонтов 1957, 209]; «И продолжительно было их счастье? – спросил я» [Лермонтов 1957, 222]; «Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?» [Лермонтов 1957, 234] и др.
Рассказываемой Максимом Максимычем истории соответствует вре-меннáя ретроспектива (ему заранее известны и ее завязка, и ее событийное наполнение, и ее окончание); обращенные к нему вопросы повествователя фиксируют развертывание сюжета повести по законам линейного времени, стрела которого (с учетом временнóй перспективы повествования) направлена из прошлого в будущее.
История знакомства Максима Максимыча с Печориным, с которым он жил «с год», наделавший ему «хлопот» и оставшийся потому так «памятен» [Лермонтов 1957, 209], развертывается из определенной временнóй точки, обозначенной наречием «раз» (см.: [Леонова 2014, 151]), указывающим, что однажды произошло в жизни штабс-капитана: «Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости» [Лермонтов 1957, 208]. Из такой же временнóй точки развертывается и история любви Печорина и Бэлы: «Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу…» [Лермонтов 1957, 210]. Ср.: «…она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне…» [Лермонтов 1957, 222].
Рассказ штабс-капитана ограничен по времени рамками общения с Печориным, пока тот находился в крепости под его началом, и строится как переход от одного эпизода к другому посредством меток, маркирующих и момент перехода, и его протяженность (временнóй промежуток, занимаемый описываемым событием). Излагая историю Бэлы, Максим Максимыч использует такие способы ее хронологизации, как точные или примерные датировки (cр. характеристику «временных отсылок» в романе: [Леонова 2014, 156]), что подчеркивает его памятливость на события и даты и усиливает эффект достоверности рассказываемого; при этом он всегда остается в пределах событийного времени. Ср.: «Дня через четыре приезжает Азамат в крепость» [Лермонтов 1957, 216]; «На другой день утром рано приехал Казбич…» [Лермонтов 1957, 217]; «Месяца четыре все шло как нельзя лучше» [Лермонтов 1957, 228]; «Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты…» [Лермонтов 1957, 230]; «Около десяти часов вечера она пришла в себя…» [Лермонтов 1957, 235] и др.
В случаях, когда необходимо подчеркнуть неопределенную длительность тех или иных событий, Максим Максимыч передает ее с помощью наречия «долго», выражающего еще и субъективное переживании времени им самим: «Долго бился с нею Григорий Александрович…» [Лермонтов 1957, 220]; «Умерла; только долго мучилась…» [Лермонтов 1957, 235]; «Печорин был долго нездоров…» [Лермонтов 1957, 237].
Приведенные выше примеры раскрывают особый опыт времени, которым обладает Максим Максимыч как прямой свидетель и непосредственный участник происходившего и который он, не выходя за хронологические границы рассказываемой истории, четко артикулирует в процессе рассказывания. Трансформируя услышанную историю в повесть с соответствующей ее жанровой природе нарративной структурой, повествователь превращает имеющийся у Максима Максимыча опыт времени в «вымышленный опыт времени» персонажа, «чьим горизонтом является воображаемый мир» [Рикёр 2000, 107].
Такого же рода метаморфоза происходит и с рассказом самого повествователя о новой встрече со штабс-капитаном, на которую они «не надеялись», полагая, что судьба навсегда их развела, «однако встретились»; она обернулась «целой историей» [Лермонтов 1957, 238], преобразованной в повесть «Максим Максимыч».
Повествование в «Максиме Максимыче» организовано точкой зрения повествователя, синхронизирующего происходящее и свой рассказ об увиденном; события излагаются так, как он их видит и воспринимает здесь и сейчас. При этом временнáя перспектива, заданная точкой зрения повествователя, остается на протяжении всего повествования неизменной.
Отметим, что в «Максиме Максимыче» нет временнóй двойственности, в отличие от рассказа в форме воспоминания, сосредоточенного на событиях, отнесенных к недавнему или далекому прошлому (ср.: [Кожевникова 1994, 16]). Развитие сюжета здесь, как и в «Бэле», подчинено законам линейного времени, только стрела его направлена в будущее не из прошлого, а из настоящего. Настоящее время повествования совмещается и совпадает в повести с событийным временем; временнáя дистанция между ними либо вообще отсутствует, либо сжата до предела и четко соблюдается повествователем.
Повествователь рассказывает, как по пути в Екатериноград застрял на три дня в гостинице во Владикавказе, чтобы дождаться «оказии» (военного прикрытия), позволившей бы ему добраться до места следования; «на другой день рано утром» сюда вдруг прибывает и Максим Максимыч, с которым они «встретились, как старые приятели» [Лермонтов 1957, 239]. Правда, говорить им теперь было особенно не о чем: «Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать» [Лермонтов 1957, 239]. Сюжетные ожидания, казалось бы, нарушаются (встреча старых приятелей лишается статуса события и не обещает нового рассказа о какой-нибудь занимательной истории), но в центре повествования неожиданно оказывается другая встреча, Максима Максимыча и Печорина, с которым, как извещает штабс-капитан печоринского слугу, прося сообщить о себе, они «были приятели» и «друзья закадычные» [Лермонтов 1957, 241]. Потому-то Максим Максимыч и уверяет повествователя, что Печорин «сейчас прибежит», сам же отправляется «за ворота его дожидаться...» [Лермонтов 1957, 241].
Повествователю отведена в повести роль свидетеля и наблюдателя происходящего. Так, он подробно (поминутно и по часам) фиксирует слишком долго тянущееся для Максима Максимовича время ожидания Печорина, появления которого также ждал «с некоторым нетерпением», так как открывшиеся в рассказе штабс-капитана «некоторые черты в его характере показались» ему «замечательными» [Лермонтов 1957, 241]. Описывая случившуюся на другой день встречу Максима Максимыча с Печориным, повествователь воспроизводит их разговор, темой которого становится прожитое ими после расставания время; впечатления и пере- живания, наполнившие его, существенно, как выясняется, различаются. Потому и реагируют они на встречу по-разному.
Максим Максимыч искренне недоумевает, почему Печорин, с которым они «сколько лет... сколько дней» не видались и которого ему хотелось бы «столько расспросить», так спешит, что готов расстаться с ним прямо «сейчас» [Лермонтов 1957, 245]. Для штабс-капитана, не забывшего, каким было их «житье-бытье в крепости» [Лермонтов 1957, 245], ничего с тех пор не изменилось, поскольку не изменились ни его положение, ни его образ жизни. Но Печорина, давно покинувшего крепость, не трогает воспоминание, каким он был «страстным охотником стрелять», а стоило напомнить ему о Бэле, так он «чуть-чуть побледнел и отвернулся...» [Лермонтов 1957, 245]. На простодушный вопрос, «что поделывали», Печорин, «улыбаясь», сообщает, что «скучал» (о скуке как о перманентном своем состоянии он уже говорил Максиму Максимычу, немало удивив последнего своими откровениями), теперь же едет «в Персию – и дальше...» (о намерении отправиться в далекое путешествие он также ранее поведал штабс-капитану), а больше, как он вежливо уверяет, ему «нечего рассказывать» [Лермонтов 1957, 245].
Разочарование Максима Максимыча, который не так думал «встретиться», тем сильнее, что он не только «не забыл ничего», но и сам остался прежним; Печорин, замечая, как тот «печален и сердит», и пытаясь убедить, что отношение к нему не изменилось, «дружески» его обнимает: «… неужели я не тот же?» [Лермонтов 1957, 245]. Но он действительно уже не тот же, каким помнит его Максим Максимыч, только видимое равнодушие демонстрирует не к нему, но к собственному прошлому, а и потому к судьбе своих записок (см.: [Пумпянский 2000, 641]), оказавшиеся ему ненужными и доставшиеся в результате повествователю, выпросившему их у штабс-капитана. Для воспоминаний о встречах, событиях и происшествиях, случившихся в его прошлой жизни и запечатленных в записках, нет места в том будущем, каким представляет его себе отправляющийся в свое последнее странствие Печорин.
В повестях, составивших его записки, Печорин совмещает роли героя и повествователя, но если в «Тамани» и в «Фаталисте» время повествования, построенного в форме воспоминаний, отражает дистанцию между временем переживания описываемых событий и временем рассказа о них, то в «Княжне Мери», где используется дневниковая форма повествования, подобного «раздвоения точек зрения» [Кожевникова 1994, 21] не наблюдается. Во всех названных повестях соблюдается определенная временнáя последовательность, свойственная линейному повествованию от первого лица, но стрела времени, в отличие от «Бэлы» и «Максима Максимовича», направлена как в будущее, так и в прошлое. На ситуативное изменение временнóй перспективы влияют переходы повествователя от изложения одних событий к другим, меняющие соотношение нарративного и событийного рядов, или отступления от сюжета в пользу саморефлексии (с переносом акцента на внутреннее время рефлексирующего).
В «Тамани» Печорин реконструирует порядок событий и соответствующий их изложению порядок времени, предварительно сообщив, что в «скверном городишке», куда занесла его офицерская судьба, он «чуть-чуть не умер с голоду, да вдобавок» его «хотели утопить» [Лермонтов 1957, 249]. Событие, предшествующее сюжетной развязке, выделено и отмечено уже в самом начале повествования; развертываясь, нарративная интрига сопрягается с интригой рассказываемой истории, неожиданные повороты которой, предуказанные сообщением об угрожавшей герою опасности, спровоцированы его же авантюрным поведением.
Приехав «на перекладной тележке поздно ночью» [Лермонтов 1957, 249] и рассердившись, что не удается найти полагающуюся ему «казенную квартиру», Печорин велит десятнику вести его «хоть к черту»; тот и приводит, предупредив, что «там нечисто», к «небольшой хате, на самом берегу моря» [Лермонтов 1957, 249]. Вид слепого мальчика, выползшего «из сеней» [Лермонтов 1957, 250], и разговор с ним так его впечатлил, что он «не мог заснуть» [Лермонтов 1957, 251]. Рассказывая о происходящем, Печорин точно фиксирует течение событийного времени: «Так прошло около часу»; заметив, как «кто-то», оказавшийся слепым мальчиком, «вторично пробежал мимо» [Лермонтов 1957, 251] окна, он спустился вслед за ним к берегу моря, где подслушивает разговор слепого с какой-то женщиной: «Так прошло минут десять, и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась» [Лермонтов 1957, 252–253]. Мальчик, незнакомка и вышедший из лодки человек, выгрузив груз, куда-то с ним отправились.
Восприятие наблюдаемой сцены дано в реальном модусе, будто все происходит в настоящем времени; увиденное мотивирует острую реакцию героя на непонятные «странности» [Лермонтов 1957, 253] и твердую решимость «достать ключ этой загадки» [Лермонтов 1957, 254]. Так проявляется в «Тамани» присущая Печорину способность испытывать «роковую включенность в разыгрываемые им же самим коллизии» [Савинков 2014, 601]. Знакомясь с девушкой, голос которой он слышал минувшей ночью, он не только «пересказал ей всё, что видел», но и, сделав «строгую мину», пригрозил «донести коменданту», она же, приняв угрозу всерьез, притворилась влюбленной и, назначив «нынче ночью» [Лермонтов 1957, 257] свидание на берегу, попыталась, заманив в лодку, утопить его. Вновь подслушанный им разговор, теперь девушки и прибывшего в лодке, чтобы забрать ее, мужчины, позволяет убедиться, «что речь идет о контрабанде» и «контрабандистах» [Набоков 1993, 243].
Подслушивание, играющее важную сюжетную роль в «Тамани», служит разновидностью такого приема повествования, как «случайность» [Набоков 1993, 242], что усиливает впечатление, будто Печорин, позволив себе авантюрные поступки, оказался во власти авантюрного времени, подчиненного «чистой случайности с ее специфической логикой» [Бахтин 1975, 242]. Но герой, неосторожно вмешавшись в жизнь «честных контрабандистов», в «мирный круг» которых его, как он недоумевает, зачем-то кинула «судьба» [Лермонтов 1957, 260], не является «чисто авантюрным человеком – человеком случая» [Бахтин 1975, 245]. Для него авантюрное время становится таким же объектом психологического эксперимента, как и люди, попавшие в поле его внимания и интереса. Так что тут не «игра судьбы» [Бахтин 1975, 245], на непостижимый характер которой он ссылается, а игра с судьбой, неожиданно осложненная вторжением случая; именно такую форму принимает отмеченный эксперимент, почему «вызванное героем действие получило непредвиденный ход» [Дрозда 2014, 338].
Ближе к финалу событийное время резко ускоряется, а время повествования резко сжимается; герою, доставшему все же ключ к волновавшей его загадке, осталось в итоге констатировать, что он чуть «не пошел ко дну», а «всё», что было у него из вещей, из хаты «исчезло» [Лермонтов 1957, 260]. Покидая Тамань, Печорин вновь, как и в начале повести, предстает, как он определяет свой статус, «странствующим офицером, да еще по казенной надобности» [Лермонтов 1957, 260], но вынужденным теперь, после всего произошедшего с ним, задуматься о логике собственной судьбы.
В «Фаталисте» рассказывание истории отмечено трансформациями событийного времени, обгоняющего время повествования вплоть до заключительных эпизодов, когда времена эти синхронизируются, так как Печорин, следуя за событиями (в роли повествователя) буквально «по пятам» [Лихачев 1979, 213], теперь активно включается в действие в качестве непосредственного их участника.
Временнáя позиция Печорина, с которой он ведет отсчет времени и отсчет событий, зафиксирована в самом начале повести; речь идет о происшествии, которое произошло однажды, когда ему «как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге»; офицеры, бросив играть в карты, чем они обычно занимались «по вечерам» [Лермонтов 1957, 338], завели вдруг разговор, существует ли предопределение. Поручик Вулич, известный своей «страстью к игре» [Лермонтов 1957, 339], предложил, присоединившись к спорившим, «испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заране назначена роковая минута...» [Лермонтов 1957, 340].
Восприятие Печориным последовавшей далее сцены дано, как и в «Тамани», в реальном модусе; заняв позицию наблюдателя, он описывает увиденное так, будто оно развертывается прямо сейчас. Причем эффект реальности здесь усиливается, так как экстремальная ситуация не возникла бы, если б он не спровоцировал ее предложенным в шутку пари, «что нет предопределения» [Лермонтов 1957, 340]. Невольно (шутя) приобщившись к чужому эксперименту, принявшему форму испытания, непредсказуемого по возможному результату, Печорин демонстрирует быструю вовлеченность в него; хронологию происходящего, отражающую субъективное переживание им времени, он прослеживает буквально поминутно.
Отметив, что поручик, выбрав пистолет и приобретя «в эту минуту» над всеми «какую-то таинственную власть» [Лермонтов 1957, 340], медлит, отвлекаясь на новые пари, с выполнением уже заключенного, Печорин, которому «надоела эта длинная церемония», советует ему: «…или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать»
[Лермонтов 1957, 341]. В ответ тот просит Печорина бросить вверх карту; «в ту минуту», как туз, медленно опускавшийся, «коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!» [Лермонтов 1957, 342]. Чтоб доказать, что пистолет был заряжен, он вновь стреляет, пробив пулей фуражку, в которую прицелился: «Минуты три никто не мог слова вымолвить» [Лермонтов 1957, 342].
Окончание затеянного Вуличем эксперимента обозначено сменой временнóй точки зрения повествователя: «…не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно…» [Лермонтов 1957, 344]. Локализация во времени описанного происшествия (в этот вечер) и рассказывания (теперь) подчеркивает как сюжетную роль «последующих эпизодов» [Тюпа 2006, 42], поставивших доказательство под вопрос, так и синхронизацию времени повествования и времени действия, движущегося к неожиданной развязке. Хотя Печорин и заметил на лице поручика «странный отпечаток неизбежной судьбы» [Лермонтов 1957, 341], смутив того предсказанием, что он должен «нынче умереть» [Лермонтов 1957, 342], то, как развернутся события после эксперимента, предугадать никак не мог.
Три офицера, пришедшие за ним, чтобы сообщить об убийстве Вулича, разбудили его в 4 часа утра и повели «к пустой хате на конце станицы» [Лермонтов 1957, 345], где заперся убийца. Печорин, вновь оказавшись, как и в эпизоде с пари, в экстремальной ситуации, когда надо было «схватить преступника», но никто «не отваживался броситься первый» [Лермонтов 1957, 345], решается на эксперимент, только без тени авантюрности, как в случае поручика, а тщательно продуманный. Ср.: «В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу я вздумал испытать судьбу» [Лермонтов 1957, 346]. Точно рассчитав, как взять убийцу живым, он, действуя внезапно, сумел схватить того «за руки», так что «не прошло трех минут, как преступник был уж связан и отведен под конвоем» [Лермонтов 1957, 347].
Обозначив хронологические границы собственного эксперимента, сюжетно перекликающегося с экспериментом Вулича над самим собой, Печорин в финале заставляет событийное время течь назад, к началу повести. Вернувшись в крепость и выслушав мнение Максима Максимовича «насчет предопределения» [Лермонтов 1957, 347], он оставляет не-предрешенным вопрос, вызвавший разногласия среди офицеров и давший толчок рассказанной истории, написана ли судьба человека «на небесах» [Лермонтов 1957, 338]. Но своей судьбой он решил распорядиться сам.
В «Княжне Мери» соотношение событийного времени и времени повествования определяет избранная Печориным форма подневных записей; так как рассказ следует здесь вплотную за излагаемой историей, то дистанция между временами сокращена до минимума. Стремление направлять (по своему усмотрению) ход событий вызывает у Печорина желание овладеть временем, чтобы подчинить и его своей воле, как привычно подчиняет ей «всё», что его «окружает» [Лермонтов 1957, 294]. Отсюда опыты со временем, которые он ставит, демонстрируя свою власть над ним, порождающие сюжетную интригу со всеми ее предсказуемыми и непредсказуемыми поворотами. Дневниковое повествование и разворачивается в повести как последовательное описание опытов со временем, позволяющих герою, решающему таким образом «тему измерения своей жизни временем», утвердить «свое время» [Пумпянский 2000, 642].
Такого рода опытами отмечены его отношения с Мери и с Грушницким, имеющим на нее виды; «бедного страстного юнкера» ему хотелось (из чувства противоречия) «побесить» [Лермонтов 1957, 267], а московскую княжну своим вызывающим поведением рассердить, что ему без труда удается, «не на шутку» [Лермонтов 1957, 268]. Хотя он и не думает вовсе «волочиться за княжной» [Лермонтов 1957, 272], но старается тем не менее привлечь к себе ее внимание показным равнодушием или дерзкими поступками, размечая точными датировками и внимательно прослеживая течение (в нужном ему направлении) событийного времени.
16-го мая он записывает: «В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные» [Лермонтов 1957, 274]. 21-го мая: «Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая» [Лермонтов 1957, 284]. 22-го мая: «Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцовать с незнакомыми дамами» [Лермонтов 1957, 285]. 29-го мая: «Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного» [Лермонтов 1957, 292] и др.
И так вплоть финального объяснения с княжной, когда, «получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N», он «зашел к княгине проститься» [Лермонтов 1957, 335].
Подневные записи не просто отражают субъективное восприятие Печориным и столь же субъективное переживание им происходящего, но, хронологически выстроенные, раскрывают присущий своему времени сюжетный потенциал. Будучи разновидностью эксперимента над теми, кто попадает в сферу его личных интересов, опыты со временем позволяют ему сформировать особый сюжет своего времени; сюжет этот собственно и становится сюжетом дневниковых записок, в котором переплетаются две взаимосвязанные линии: линия княжны Мери и линия Веры, давней возлюбленной героя.
Сюжетное развитие второй линии также находит отражение в хронологической последовательности дневниковых записей.
13-го мая: «Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?..» [Лермонтов 1957, 273]. 16-го мая: «Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо» [Лермонтов 1957, 277-278]. 23-го мая: «Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна.
Мы кинули друг другу беглый взгляд» [Лермонтов 1957, 289]. 10-го июня: «Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гуляньи» [Лермонтов 1957, 306]. 14-го июня: «Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе, одна; к ногам моим упала записка…» [Лермонтов 1957, 314] и др.
Датировки в дневнике носят, как можно было убедиться, не формальный характер отсчета времени, но приобретают важное для понимания смысла происходящего сюжетно-нарративное значение. Отметим, что временные промежутки между записями то растягиваются, то сжимаются в зависимости от скорости, с какой развертывается действие, но соотношение времени повествования и событийного времени при этом не нарушается.
Временнóй сдвиг фиксируется лишь в заключительной записи от 16го июня, в которой Печорин, описывая подготовку к дуэли, прерывает «свой журнал», чтобы вновь, когда он «уже полтора месяца» находится в крепости, вернуться к нему и продолжить рассказ о случившихся в его жизни «стольких странных событиях»: «Как всё прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время» [Лермонтов 1957, 322]. Изображая эти события «с определенной временнóй дистанции» [Тамарченко 1997, 158] и внутренне как бы отстраняясь от них, теперь, когда приходит пора завершить повествование, он делает предметом рефлексии не свое время, а время как таковое.
Итак, мы постарались выявить особенности временнóй организации повестей, составивших лермонтовский роман, конфигурация которых (как особой повествовательной формы) образует уникальное единство; при этом в каждой из них время (как событийное, так и повествовательное) имеет свои отличительные и конкретные свойства. Между тем в «Герое нашего времени» – с характерной для него «“двойной” перспективой изображения» – за разного рода изобразительно-описательной конкретикой «угадывается универсальное содержание» [Маркович 2008, 230]. Это касается и времени, универсальные смыслы которого актуализируются в романе путем переключения в его структуре от «линейных аспектов» к «иерархическим» [Рикёр 2000, 108].
Так, не случайно в структурно-смысловом центре романа, в самой его середине, оказывается – как главное событие фабулы – сообщение о смерти Печорина, не только давшей повествователю «право печатать» под своим именем чужие «записки» [Лермонтов 1957, 248], но резко высветившей принципиально значимый для «Героя нашего времени» онтологический аспект повествования. При этом смерть Печорина не описывается подробно и не становится предметом изображения в отличие от смертей сюжетно связанных с ним Бэлы, Грушницкого и Вулича. Их смерти, непредсказуемые и отмеченные случайностью, которой могло бы и не быть, прерывают течение жизни, учитывая возраст, много раньше уготованного им срока. Но завершенность судеб этих персонажей, хотя они не успели изжить вероятное время своей жизни, не ставится в романе под вопрос; физический конец означает и завершение судьбы каждого из них. Иное дело Печорин, тоже умерший до срока.
Смерть является постоянным мотивом размышлений и рассуждений Печорина, остро переживающего состояние скуки как метафорической смерти при жизни; избавить его от скуки, причем избавить навсегда, может лишь путешествие, в которое он думает отправиться: «…авось где-нибудь умру на дороге!» [Лермонтов 1957, 232]. О готовности умереть он размышляет и перед дуэлью с Грушницким: «Что ж? умереть, так умереть: потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно» [Лермонтов 1957, 321]. Однако после дуэли настроение его меняется: «Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить» [Лермонтов 1957, 322]. В «Фаталисте», когда задуманное им испытание судьбы закончилось, «решительность» своего характера он объясняет присущим ему философским взглядом на вещи: «Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!» [Лермонтов 1957, 347]. Уезжая «в Персию и дальше» [Лермонтов 1957, 245], он оставляет Максиму Максимычу свои записки, словно ставя крест на своей жизни, отраженной и описанной в них, и примериваясь к возможной смерти; в ином мире они ему не понадобятся. Но умирает он не на пути в Персию, а «возвращаясь из Персии» [Лермонтов 1957, 248]; утверждая, прибегнув к опытам со временем, свое время, он находит и свою смерть, настигающую его, правда, не тогда, когда он, сославшись на авось, если и не рассчитывает, то во всяком случае предполагает.
Неожиданная смерть на дороге очерчивает физические границы жизни Печорина, перешедшего в сферу вечности и «не имеющего отныне ничего общего с здешним миром» [Лермонтов 1957, 249]. Но если со смертью время его земного существования завершено, то ни «отчетливое ощущение завершившейся судьбы героя» Маркович [2008, 231], ни сколько-нибудь ясное представление о завершенности его личности не складывается в романе; это подчеркнуто и отказом от хронологической последовательности повествования, показательно лишенного биографической перспективы. И личность, и судьба Печорина, внезапно покинувшего здешний мир, остаются незавершенными; имеется в виду «незавершенность внутренняя, глубинно-смысловая» [Маркович 1997, 140], которую отражает и выражает временнáя организация «Героя нашего времени».
Список литературы Свойства и смыслы времени в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.
- Дрозда М. Повествовательная структура «Героя нашего времени» // М.Ю. Лермонтов: pro et contra. СПб.: РХГА, 2014. Т. 2. С. 319–346.
- Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. 472 с.
- Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX–XX вв. М.: Институт русского языка РАН, 1994. 336 с.
- Леонова М.П. Пространство и время в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Лермонтовские чтения-2014. СПб.: Лики России, 2015. С. 148–159.
- Лермонтов М.Ю. Сочинения: в 6 т. Т. VI. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 900 с.
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. 360 с.
- Маркович В.М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1997. 216 с.
- Маркович В.М. Избранные работы. СПб.: Ломоносовъ, 2008. 316 с.
- Набоков В.В. Предисловие к «Герою нашего времени» / пер. с англ. // Набоков В.В. Романы. Рассказы. Эссе. СПб.: Энтар, 1993. С. 238–249.
- Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки славянской культуры, 2000. 864 с.
- Рикёр П. Время и рассказ. Т. 2. Конфигурация в вымышленном рассказе / пер. с фр. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 224 с.
- Савинков С.В. Печорин как Герой «времени» // М.Ю. Лермонтов: pro et contra. СПб.: РХГА, 2014. Т. 2. С. 584–603.
- Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века: Проблемы поэтики и типологии жанра. М.: РГГУ, 1997. 203 с.
- Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 37–113.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М.: Академия, 2006. 336 с.
- Успенский Б.А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры, 1995. 360 с.
- Успенский В.А. Что такое парадокс? // Finitis duodecim lustris: cборник статей к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Таллин: Ээсти раамат, 1982. С. 159–162.
- Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: Советский писатель, 1989. 544 с.