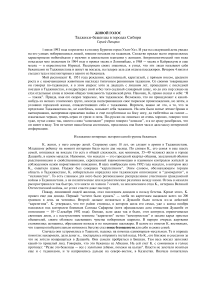Таджики-беженцы в городах Сибири
Автор: Панарин Сергей Алексеевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Живой голос
Статья в выпуске: 1, 1999 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911693
IDR: 14911693
Текст статьи Таджики-беженцы в городах Сибири
1 июля 199З года я прилетел в столицу Бурятии город Улан-Удэ. И уже на следующий день увидел на его улицах побирающихся людей, внешне похожих на таджиков. Сходство прежде всего определялось характерными тюбетейками у мужчин и цветастыми платьями у женщин. Антропологический тип тоже показался мне знакомым (в 1964 году я провел месяц в Ленинабаде, в 1968 — месяц в Кайраккуме и еще месяц — в окрестностях Нурека). Расспросив своих знакомых, я узнал, что эти люди называют себя беженцами из Таджикистана и живут на вокзале, на галерее зала для отдыха пассажиров. Вечером 4 июля я съездил туда и взял интервью у одного из беженцев.
Мой респондент К. 1951 года рождения, круглолицый, кареглазый, с прямым носом, среднего роста и с намечающимся животиком выглядел типичным равнинным таджиком. Со своими товарищами он говорил по-таджикски, я в этом уверен: хотя за двадцать с лишним лет, прошедших с последней поездки в Таджикистан, я подрастерял свой и без того скудный словарный запас, но до сих пор узнаю на слух отдельные слова и помню общую тональность таджикской речи. Наконец, К. прямо сказал о себе: “Я — тожик”. Правда, имя его скорее тюркское, чем таджикское. Возможно, что он принадлежит к какой-нибудь из мелких этнических групп, некогда подчеркивавших свое тюркское происхождение, но затем, в условиях городской жизни, отождествивших себя с таджиками. Впрочем, важно не это, а то, что за пределами Таджикистана он, не колеблясь, называет себя таджиком. На нем были мятые летние брюки и вытянувшаяся, выгоревшая оранжевая майка и еще полуботинки на босу ногу, да тюбетейка на голове — изначально черная, теперь серая от грязи и пота. По-русски он понимал не очень хорошо, говорил того хуже, путал слова: так, вместо слова “комендант” упорно говорил “домком”, и я не сразу разобрался, что он имеет в виду. Тем не менее наша беседа состоялась, продлилась она более часа и дала массу интересной информации.
Изложение интервью: история одной группы беженцев
К. женат, у него семеро детей. Старшему сыну 18 лет, он служит в армии в Таджикистане. Младшему ребенку на момент интервью было всего два месяца. По словам К., его семья и еще шесть семей, ютящихся на вокзале (то есть в общей сложности, как минимум, 35–40 человек) жили в городе Душанбе, в одном махалля. Напомню, что махалля — это городской квартал-община, заселенный обычно родственниками и свойственниками, скрепленный взаимопомощью и взаимным контролем жителей за соблюдением основ нормативного поведения. В одну ноябрьскую ночь 1992 года махалля, в котором жил К., охватило пламя. Поджог был совершен “каратегином”. Этим словом, обозначающим горную область в Таджикистане, К. собирательно определял всю таджикскую оппозицию: и “демократов”, и “исламистов”. То есть главным для него было региональное распределение участников гражданской войны в Таджикистане, а не политические или идеологические различия между ними. Огонь в махалля распространился так быстро, что никто из членов 7 семей, за исключением отца К., ветерана Великой Отечественной войны, не успел спасти даже паспорт.
Пожар, лишивший людей жилища, стал последним доводом в пользу бегства. Кроме этого, К. привел еще два довода. Первый: “нечего было кушать” — хлеба по карточкам выдавали всего по 200 граммов в день на человека. Второй: дальше оставаться в Душанбе было нельзя из-за действий “каратегина”. К. утверждал, что тот район столицы, в котором жила его семья, уже с конца ноября находился под контролем боевиков Сангака Сафарова (хотя официальная дата очищения Душанбе от оппозиции — 10–12 декабря 1992 года). Однако, если даже так и было, этот контроль ограничивался световым днем, а с наступлением темноты “каратегин” мстил “коммунистам” и заодно карал простых обывателей, своим обликом задевавших чувства поборников шариата. В первую очередь жертвами становились женщины, обрезавшие волосы и не носившие шальвары. В целом из ответов К. явствовало, что главным побудительным мотивом к бегству стал поиск безопасности для себя и своих семей.
Сначала они устремились в Ташкент, надеясь на помощь единоверцев-мусульман. Те и вправду помогли: накормили, дали денег и... постарались отправить гостей назад. Но К., его близкие и соседи ни за что не хотели возвращаться в Душанбе. Они сумели пробраться в Бишкек. Там весь вокзал заполнял какой-то пришлый люд. Говорили, что это беженцы из Абхазии. На сей счет К. с сомнением в голосе протянул: “Разве это беженцы — все с золотыми зубами, похожи на цыган”. Власти не захотели возиться еще и с таджиками, и те направились дальше на северо-восток, в Казахстан. Вначале попытались зацепиться в Семипалатинске. Затем перебрались в Россию, на Алтай, в Барнаул, где их, наконец, встретили участливо, поселили в общежитии и помогли трудоустроиться. Сам К. работал кочегаром в котельной при общежитии. Но длилось это относительное благополучие недолго; месяц спустя комендант потребовал очистить помещение. К. пытался объяснить, почему так произошло, но то ли не сумел. то ли не захотел сделать это внятно. Можно предположить, что одной из главных причин быстрого охлаждения властей Барнаула к таджикам было то, как они работали. Во-первых, со слов К. я понял, что на работу устроились далеко не все трудоспособные мужчины, не говоря о женщинах. Во-вторых, — это уже моя догадка, но отнюдь не лишенная оснований, — те, кто пошел работать, работали неважно: из-за низкой даже по российским меркам квалификации, привычки к иному, нероссийскому ритму и стилю жизни, трудностей адаптации к сибирской зиме.
Итак, странствия таджиков возобновились. Приехав в Новосибирск, они на вокзале же натолкнулись на соотечественников, которые набросились на вновь прибывших с упреком: “Зачем приехали? Тут и без вас плохо!” То же повторилось в Иркутске. Наконец, они добрались до Улан-Удэ. Сейчас они ждут отца К., который из Новосибирска отправился в Омск за дочерью, тоже бежавшей из Душанбе, но с другими людьми. Во главе с ним, человеком заслуженным и свободно объясняющимся по-русски, они пойдут в Верховный Совет республики просить, чтоб им дали работу и жилье. Все они горожане, и профессии у них городские: К. последнее время работал парикмахером, жена его — фельдшер, есть среди них водитель, монтер, строители. Они хотят остаться в городе, нет у них навыка к сельской жизни. Если здесь ничего не получится, они двинутся дальше: ходят слухи, что беженцев неплохо принимают на Дальнем Востоке. Но и в Бурятии им нравится. У них только две претензии. Во-первых, жизнь на вокзале невозможна. И дело даже не в том, что приходится спать вповалку в душном помещении, а в том, что на вокзале собираются “разные люди”. В России — “свобода, что хочешь, то и делай: гуляй с девушкой, пей водку, ругайся”. Как при такой свободе, не имея своего угла, укрыться от “разных людей”? Один богатый китаец, пожалев беженцев, подарил им японский магнитофон, дал много денег. В первую же ночь магнитофон украли. Во-вторых, это непонятно и обидно, но тут их все принимают за цыган, как будто не видят, что “мы в тюбетейках”!
Напоследок я спросил, собираются ли К. и остальные вернуться в родные края. К. сказал, что они хотят пожить в России, в Таджикистан уедут когда-нибудь потом. Я попытался уточнить: “Когда там у вас власть укрепится?” Последовал совершенно замечательный ответ: “Нет, когда снова будет Советский Союз! Наша власть нам не нужна!”
Дополнения и комментарии: таджики в роли беженцев
За семь месяцев скитаний по СНГ данная группа беженцев многому научилась. Люди привыкли, например, просить милостыню, которая, по-видимому, является главным источником их доходов. Но побираясь, таджики всячески стараются подчеркнуть, что они — именно беженцы, а не нищие. Они обязательно кладут на асфальт или вешают на грудь кусок картона с надписью “помогите беженцам”. Они молчаливы (сказывается плохое знание языка), ведут себя ненавязчиво, но в то же время нажимают на жалость прохожих: смотрят умоляющими глазами, усаживают рядом маленьких детей, прижимают руки к сердцу, истово благодаря за подаяние и т.п. В целом, по сравнению с профессиональными российскими нищими, они держатся более достойно и выглядят более привлекательно.
Тем не менее, если судить по рассказам и собственным наблюдениям, сделанным помимо Улан-Удэ еще и в Иркутске, таджики-беженцы в некотором роде тоже профессионализировались. Так, в незнакомом городе они быстро нащупывают места, где образуются большие скопления людей, в том числе не самых бедных, стараются ловить моменты, когда толпа настроена благодушно. Сталкиваясь с теми, от кого так или иначе зависят — будь то милиционер или медперсонал на вокзалах, — они в качестве средства самозащиты прибегают к маленьким хитростям, маленькой лжи. Например, преувеличивают степень непонимания русского языка. Средство это, однако, двусмысленно по производимому им эффекту: с одной стороны, в конкретных ситуациях оно помогает, но с другой — поскольку контрагенты таджиков чувствуют, что те их слегка надувают, оно же укрепляет негативное отношение к беженцам, все более широко распространяющееся среди мелкого начальства. Наконец, сталкиваясь с ярко выраженным сочувствием, не избалованные им беженцы не спешат тем не менее раскрыть душу доброхоту. Они действуют так, чтобы немедленно извлечь из сочувствия хоть какую-то выгоду для себя, при этом не очень беспокоясь о том, какое впечатление на сочувствующего может произвести столь утилитарное отношение к его благородному порыву. Конечно, судить их за это нельзя: не по своей воле оказались они в положении беженцев. И уж коли так случилось, они, чтобы уцелеть, должны были усвоить навязываемые этим положением способы поведения, проникнуться специфическим эгоизмом беженцев.
Война выбросила таджиков из родной среды в чужое для них этнокультурное окружение. Как они к нему адаптируются? Все, что написано далее — это скорее предположения, питаемые довольно скудными наблюдениями. Представляется, что в поведении встретившихся мне таджиков-беженцев доминирует забота о сегодняшнем дне и пассивное приспособление к текущим обстоятельствам. Страшась конфликтов, они сводят к минимуму контакты с миром, в котором очутились. Как следствие, они плохо его знают. Впрочем, они скорее всего уже поняли, что нет для них в России аналогов опекающей личность общности, что здесь каждый человек более или менее сам по себе. В то же время они чувствуют, что как раз рыхлость российской общественной структуры позволяет им беспрепятственно скользить между ее атомами. Поэтому наша “свобода” их отчасти пугает, отчасти — привлекает. Кроме того, беженцы, видимо, еще не расстались с надеждой найти патрона в нынешних институтах государственной власти. Так же, как они это делали дома, в каждом новом месте, куда их забрасывает судьба, таджики пытаются установить отношения с “главным начальником”. Но в современной России это приносит куда меньшие дивиденды, чем в России брежневской, тем более — в Таджикистане. Специализированные же подразделения управленческих структур беженцы игнорируют, я думаю, не только по неведению, но и по предвзятому недоверию. Характерно, что до самого конца 1993 года ни в Министерство труда и занятости Бурятии, ни в местное отделение Федеральной миграционной службы (ФМС) не поступало обращений от таджиков-беженцев. И только в 1994 году республиканская ФМС зафиксировала-таки проживание на территории четырех таджиков-беженцев (двух из собственно Таджикистана и двух из Узбекистана) 1.
Мне кажется, что таджики-беженцы пока ставят во главу угла две цели: минимальную физическую безопасность и максимальное сохранение этнической идентичности. Первое достигается через пребывание в России, но то же самое пребывание чревато угрозой для второго. Беженцам хотелось бы и остаться в России на неопределенное время, и избегнуть интеграции в местное общество. Их поведение соответствует этой установке, поэтому их адаптация оказывается избирательной и неглубокой. Им пришлось принять образ действий, который местное население связывает с бродягами и нищими — социальными персонажами, достаточно знакомыми в России и потому терпимыми ее жителями. Но они одновременно претендуют на более пристойный статус беженцев и оберегают свою непохожесть на привычных местных национальных персонажей. В результате возникают два резких, взаимосвязанных и взаимоусиливающихся противоречия: одно — между самовосприятием таджиков и их восприятием извне, другое — между их реальным видом и поведением и сложившимся у принимающего населения стереотипом таджика.
Беженцы глазами горожан
Как принимает и воспринимает таджиков-беженцев население сибирских городов? Отвечая на этот вопрос, я буду основываться и на собственных наблюдениях, сделанных в Улан-Удэ и Иркутске, и на содержании бесед с жителями этих городов. Но поскольку в Иркутске я был значительно меньше времени, мои суждения в большей мере отражают ситуацию в бурятской столице. В известном смысле такой перекос даже полезен, и вот почему. При предварительном сравнении двух городов в качестве принимающей среды Улан-Удэ представляется мне более подходящим для беженцев, хотя бы потому, что он меньше и патриархальнее Иркутска. А главное: этнический облик Иркутска, несмотря на то, что там, как во всяком крупном городе, можно встретить представителей многих национальностей (включая самые экзотические для Сибири), безусловно, определяется русскими. Улан-Удэ, напротив, город бурятско-русский по составу. Его обитатели с детства находятся в атмосфере непрерывных межрасовых и межэтнических контактов. Это обстоятельство и позволяет предположить, что жителям Улан-Удэ свойственна большая чуткость восприятия чужой этничности, чем иркутянам. А значит — здесь больше шансов на то, что иноэтничные беженцы найдут понимание и сочувствие.
Забегая вперед, скажу, что как раз появление в Улан-Удэ таджиков показало несостоятельность такого, чисто логически выстраиваемого предположения. Правда, милостыню им подавали щедро: в тюбетейках лежали купюры достоинством в 10, 25, 50 и даже 100 и 200 рублей. Однако сыпался этот разноцветный дождь в особое время — в дни торжеств по случаю 70-летия Бурятии. Улицы Улан-Удэ были заполнены гуляющим народом; щедрые подаяния вполне соответствовали благодушному настрою горожан. Кроме того, таджики появились в Улан-Удэ сравнительно недавно и не успели еше примелькаться, надоесть. О том, что с течением времени и особенно в будничной обстановке их подневный сбор будет падать, убедительно свидетельствует пример Иркутска. Там им подают не больше, чем другим нищим, а может быть, и меньше. Во всяком случае попытка пожилого таджика с детьми
“собрать дань” с очереди, стоявшей в кассу предварительной продажи железнодорожных билетов (стоял в ней и я), не увенчалась успехом: подавали редко и скупо, реакция людей была в лучшем случае равнодушной, а в худшем — раздраженной.
В Улан-Удэ я заговаривал о таджиках-беженцах почти со всеми своими знакомыми бурятами. Мои собеседники могут быть отнесены к интеллигенции, как гуманитарной, так и технической. Среди них были ярые поборники идеи национального возрождения и люди, относительно к ней равнодушные. Помимо бурят, я беседовал с несколькими русскими и одним местным немцем. Общим для моих респондентов было одно: они считали живущих на вокзале беженцев цыганами. Следовательно, обида К. возникла не на пустом месте. Некоторые из опрошенных подкрепляли такую идентификацию беженцев ссылками на авторитетное мнение местной прессы 2. Большинство, однако, выдвигали собственные доводы. Вкратце их аргументы сводятся к следуюшему. Во-первых, люди, выдающие себя за таджиков, одеты в цветастые тряпки, сильно напоминающие цыганские. Во-вторых, маловероятно, чтобы настоящие таджики бежали в Россию, страну для них все-таки чужую по языку и культуре. И в-третьих, настоящие таджики — труженики, они никогда не станут побираться на улицах.
Первый довод (“цветные тряпки”) объясняется достаточно просто. У местного населения, в том числе и его культурной элиты, — минимальный опыт межэтнического общения за пределами региона проживания. В случае с народами, рассылающими свою торговую диаспору по всему бывшему Союзу, это обстоятельство не столь уж и существенно; в Улан-Удэ и Иркутске уже настолько пригляделись к “кавказцам”, что многие научились выделять из них азербайджанцев, чеченцев и т.д. Иное дело — народы, всегда отличавшиеся низкой территориальной подвижностью. Их мало видели в том же Улан-Удэ, и вряд ли сколько-нибудь значительное число улан-удэнцев побывало в Таджикистане. Неудивительно, что определение этнической принадлежности беженцев, явно не относящихся ни к одной из национальностей, более или менее постоянно присутствующих в поле зрения жителей Бурятии и ее столицы, представляет для последних непростую задачу. К тому же люди сейчас до такой степени погружены в свою частную жизнь, так поглощены заботами о хлебе насущном, что им некогда разгадывать загадки, напрямую их не затрагивающие. Поэтому, заметив краешком глаза пестрые одеяния — этнический атрибут, напоминающий нечто знакомое, — они с легкостью причислили беженцев из Душанбе к цыганам. Это — ошибка обыденного сознания.
Следующий довод (“зачем им ехать в Россию”) отчасти порожден тем же незамутненным обыденным сознанием, но не только им. Все мои собеседники слышали и читали о гражданской войне в Таджикистане, ее истоках, следствиях, геополитическом фоне и т.д. Однако эту информацию они восприняли поверхностно, иначе люди, по крайней мере, задумались бы, была ли у беженцев возможность подобрать себе новое место жительства с близкой этнокультурной средой. Почему так произошло? Я вижу здесь две основные причины. Первая — это огромная психологическая усталость от политической информации; ее подсознательно отторгают, не осмысливают и не пускают в душу, в область такого переживания услышанного, которое помогает осмыслению. Вторая причина — усиливающаяся отчужденность российского населения от забот бывшего советского Востока. И в пору существования СССР эта его часть мало интересовала основную массу россиян. После распада Союза Центральная Азия окончательно превратилась для большинства жителей России в чужую и ничем не привлекательную страну. Это — ошибка политического сознания, обусловленная его перенапряжением и изоляционистской ориентацией.
Последний довод (“таджик не может побираться”) свидетельствует прежде всего о силе старых советских стереотипов. Некогда официальная пропаганда слепила предельно схематичный образ “младшего брата”, неутомимого и простодушного труженика-хлопкороба, и он жив до сих пор. Стало быть, в данном случае можно говорить об ошибке, возникающей под давлением отголосков имперского сознания. Но есть тут еще кое-что, в чем надо разобраться. Рядом с официальным стереотипом таджика существовал и неофициальный, согласно которому “труженик” был в действительности бездельником и деспотом в семье; он целыми днями “кейфовал” в чайхане, тогда как жена и дети вкалывали на хлопковом поле. Почему же для “опознания” непривычного явления горожане воспользовались именно первым стереотипом, а не вторым, казалось бы, легко объясняющим фигуру нищенствующего таджика? И еще вопрос, возникший у меня под впечатлением того темперамента, с которым велись разговоры о таджиках. Почему мне нередко возражали с такой страстью, с таким напором? Как будто споривших со мной людей невинный вопрос о национальности беженцев задевал за живое, затрагивал что-то очень важное, хотя, быть может, и не всегда осознаваемое...
Тут, на мой взгляд, необходимо различать две категории оппонентов. Люди, не слишком увлеченные национальной идеей, оспаривали мою версию из самолюбия: готовые внутренне с ней согласиться, за возражениями они скрывали чувство неловкости за свое первоначальное равнодушие к беженцам. Иное дело — объяснение позиции тех, кто очень сильно озабочен состоянием собственного народа.
Один мой собеседник, немец, до того, как разговор зашел о таджиках, тщательно подсчитывал численность немцев в Бурятии. По его прикидкам получалось, что данные Всесоюзной переписи населения 1989 года не точны. Часть немцев, напуганная сталинскими репрессиями, до сих пор утаивает свою национальность, пишется под русскими фамилиями; другие, осиротевшие в раннем детстве, числятся под фамилиями приемных родителей; но и первые, и вторые — “немцы по крови”.. Некоторые буряты, прежде чем я переключил их внимание на таджиков, с горечью сетовали на то, что бурятский этнос рассечен искусственными административными границами на три части (республика и два округа), что под натиском русской культуры буряты забывают родной язык, а их национальная история фальсифицирована, что в советское время в республику хлынули толпы мигрантов из других регионов России и в результате буряты оказались в меньшинстве на своей родине.
Очевидно, что и в случае с немцем, и в случае с бурятами сочувствие “по крови” помешало сочувствию к человеку; иначе говоря, своя национальная беда не только не сделала этих людей более отзывчивыми, а наоборот, лишила их способности увидеть чужое несчастье. И потому они с легкостью от него открестились, отождествив беженцев с цыганами. Ведь цыгане и должны носить цветастые тряпки, скитаться по российским просторам, ночевать на вокзалах и побираться на улицах. Таков их образ жизни. А что новоявленные “цыгане” ведут себя не совсем по-цыгански: не пристают с гаданиями, не торгуют “самопальной” косметикой, не горланят, перебраниваясь друг с другом и с прохожими, и даже выставляют таблички с призывом “помогите беженцам” — так это, наверное, уловки, рассчитанные на простаков. Но все-таки почему так не хотелось людям, обуреваемым национальным чувством, расставаться с цыганской версией, почему, даже пасуя перед убедительными доказательствами, они еще цеплялись за нее и с надеждой в голосе спрашивали, что, может быть, это таджикские цыгане, а не “настоящие” таджики? Да потому, что нетаджиками были те, кто отдал приказ депортировать немцев и чья политика сделала бурят меньшинством в собственной республике! И вот теперь эти, ни в чем перед тобой не повинные люди пришли на твою землю и так не хочется признать их этничность, ибо с их появлением историческая память о несправедливостях по отношению к твоему народу уже не может служить оправданием забвения общего, человеческого, ради отдельного, национального.
Подавление или даже простое игнорирование чужой этничности несовместимо с подлинной человечностью межличностных отношений, так что человеческое в конечном счете вбирает в себя национальное. Это, кстати, подтверждается и тем, что все мои оппоненты раньше или позже признавали в беженцах таджиков, сочувствовали им, а некоторые собирались помочь им практически. А вот национальное далеко не всегда способно органично вписаться в рамки человеческого, в чем я лишний раз убедился в ходе “таджикских дискуссий”. Пару раз мне довелось услышать: “Да, таджиков можно принять, но вот русские беженцы пусть едут в Россию” (подразумевалась европейская часть России). Конечно, надо сделать большую скидку на полемический запал: чем дольше и ожесточеннее спор, тем сильнее спорщиков “заносит” в крайние мнения, которых они в действительности не разделяют. Но все равно остается вопрос: отступило бы в конце концов уязвленное национальное чувство нерусских людей перед человеческим сочувствием, если бы беженцами оказались русские? Я в этом, к сожалению, не уверен. И честно должен признать, что моя неуверенность распространяется не только на тех, кто помнит об обидах, нанесенных властью, небезосновательно ассоциируемой с русскими, но и на самих местных русских. Ибо они тоже поначалу не хотели видеть в таджиках — таджиков, а не цыган; в беженцах — беженцев, а не злостных тунеядцев и нахлебников. По-видимому, наряду с ошибкой ущемленного национального сознания можно говорить и об ошибке национально безразличного регионального сознания, озабоченного благополучием только своего местного мирка и эгоистически не желающего ничего знать о проблемах выходцев из других мест 3.
Вместо заключения: несколько слов о “цыгане”
Выше столько раз фигурировал образ “цыгана”, что нельзя не задуматься о его современном значении. В Москве, Петербурге, крупных промышленных центрах России, в Предкавказье и кое-где еще стереотип “цыгана” явно утратил свою актуальность, отступил на задний план перед негативным стереотипом “кавказца”. Но во многих уголках России, да и СНГ в целом “цыган” все еще служит образцом породы людей, на которую как бы не совсем, не полностью распространяется человеческое отношение. Безусловно, прочность такой оценочной квалификации в значительной мере объясняется особенностями поведения реальных цыган. Но не менее справедливо и другое: этнические черты цыган представляются эпатирующими еще и по подсказке давнего стереотипа — без малейших попыток понять, отчего цыгане такие, какие есть, и почему не могут они в одночасье измениться по желанию недовольной публики.
Вместе с тем стереотип цыгана прочен еще и потому, что функционален. Как минимум выделяются две его функции. Он всегда служил и до сих пор служит средством социального самоутверждения: глядя на этого неуемного бродягу, на его вечно беременную жену и замызганных ребятишек, умудряющихся оставаться довольными жизнью в таких условиях, в которых любое “цивильное” дитя изошло бы слезами и воплями, российский обыватель пребывал и пребывает в счастливом сознании превосходства своей хоть как-то обустроенной и уж во всяком случае размеренной жизни. Хотя легкая зависть к цыганской “воле” его все-таки покалывает. В нынешнее смутное время четко обозначилась другая функция: в “цыгане” как бы слились, сконцентрировались все непонятные и потому неприятные черты “не своей” этничности. “Цыган” — это не столько настоящий цыган или даже стереотип цыганского народа, сколько обобщенное представление о целой совокупности инородцев, людей другой крови и культуры (нередко высокомерно уравниваемой с бескультурьем). Его образ стал теперь средством и оправданием национального отчуждения. И грустным парадоксом является то, что таджики-беженцы, которым судьба навязала типично цыганскую роль бродяг и изгоев, тоже пользуются этим образом, пытаясь противопоставить себя цыганам и самовозвыситься, хотя бы в мыслях и разговорах, на их счет. Впрочем, в положении беженцев это всего лишь невинное утешение...
Список литературы Таджики-беженцы в городах Сибири
- Миграционная служба Республики Бурятия. Отчет о социально-демографическом составе беженцев по регионам выхода по состоянию на 1 января 1995 г./Улан-Удэ, 1995/. С. 2
- Госкомстат России. Численность и миграция населения Российской Федерации в 1993 г. (статистический бюллетень). М., 1994. С. 6
- Независимая газета, 1993, 4 ноября.
- Полевые материалы Тункинского отряда Института востоковедения РАН, 1993 г. Анкета № 2//Архив Сектора по изучению отношений России с народами Востока