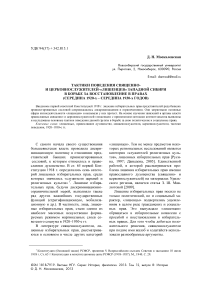Тактики поведения священно-и церковнослужителей-"лишенцев" Западной Сибири в борьбе за восстановление в правах (середина 1920-x – середина 1930-x годов)
Автор: Москаленская Дарья Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Введенное первой советской Конституцией 1918 г. лишение избирательных прав представителей ряда бывших привилегированных сословий сопровождалось дискриминациями и ограничениями. Они затрагивали основные сферы жизнедеятельности «лишенцев» и вызывали у них протест. На основе изучения заявлений в органы власти православных священно-и церковнослужителей-«лишенцев» с применением методики контент-анализа выявлены и исследованы основные тактики поведения данной группы в борьбе за свои политические и социальные права.
"лишенцы", православное духовенство, священнослужители, церковнослужители, тактики поведения, 1920-1930-е гг.
Короткий адрес: https://sciup.org/147218922
IDR: 147218922 | УДК: 94(57)
Текст научной статьи Тактики поведения священно-и церковнослужителей-"лишенцев" Западной Сибири в борьбе за восстановление в правах (середина 1920-x – середина 1930-x годов)
С самого начала своего существования большевистская власть проводила дискриминационную политику в отношении представителей бывших привилегированных сословий, к которым относилось и православное духовенство. В ст. 65 первой Конституции 1918 г. определялось семь категорий лишаемых избирательных прав, среди которых значились «служители церквей и религиозных культов» 1. Лишение избирательных прав, будучи дискриминационноограничительной мерой, выполняло также ряд других важнейших государственных функций (стратификационную, мобилизационную и др.). В частности, лица, лишенные избирательных прав, стали одним из наиболее массовых искусственно формируемых режимом маргинальных слоев советского социума в 1920–1930-е гг.
В литературе священнослужители, лишенные избирательных прав, рассматриваются в основном в числе других категорий
«лишенцев». Тем не менее предметом некоторых региональных исследований является категория «служителей религиозных культов», лишенных избирательных прав [Русина, 1997; Давыдова, 2005]. Единственной работой, в которой рассматривается проблема лишения избирательных прав именно православного духовенства (священно- и церковнослужителей) на материалах Уральского региона, является статья З. Ш. Мав-лютовой [2009].
Лишение избирательных прав носило не только политический, но и социальный характер, «лишенцы» подвергались ущемлениям в целом ряде гражданских и социальных прав. Это вынуждало «лишенцев» обращаться в избирательные комиссии с просьбой о восстановлении в избирательных правах. Для того чтобы добиться положительного решения, священнослужители при подаче ими жалоб и ходатайств использовали разнообразные аргументы.
Цель данного исследования состоит в выявлении с помощью методики контент-анализа и изучении основных мотиваций священно- и церковнослужителей-«лишен-цев» Западно-Сибирского региона при обращении в органы власти. Всего анализу подверглось 225 заявлений, принадлежавших 104 «лишенцам». Выделенные 46 категорий контент-анализа подразделяются на шесть блоков: обоснование трудового статуса, отрицание «нетрудового» статуса, сетования на жизненные тяготы, оправдание службы в церкви, форма обращения к органам власти, доказательства лояльности советскому режиму. Поскольку количество заявлений в одном деле могло быть разным и некоторые лица подавали их несколько раз, поэтому за единицу счета принято не заявление, а личное дело со всеми входящими в него обращениями.
Из 104 чел. 46 % составили священнослужители, 45 % – церковнослужители и 9 % – монахи и монахини. По возрастному составу 65 % составили лица 1880-х и 1890-х гг. рождения. По гендерному составу преобладали мужчины (91,5 %). Относительно времени начала службы в церкви – 40 % начали служить до революции, 60 % – после. По срокам оставления службы – на первом месте находится 1929 г. (19 %), затем следуют 1928 г. (17,5 %), 1927 и 1930 гг. (по 14,3 %).
В большинстве своем «лишенцы» именовали свои обращения в органы власти заявлениями, значительно реже озаглавливали их как жалобы, и в исключительных случаях называли ходатайствами. Жалобой является заявление, автор которого не согласен с правомерностью лишения его избирательных прав. В ходатайстве проситель в целом признает законность внесения его в списки «лишенцев», но просит восстановить, раскаиваясь в прошлой деятельности, ссылаясь на различные жизненные обстоятельства [Тихонов и др., 1998. С. 52].
Традиционно заявление начинается с констатации факта лишения избирательных прав. Далее следует выражение согласия или несогласия с фактом внесения в списки «лишенцев», затем – изложение различного рода обстоятельств, которые, по мнению «лишенцев», должны были повлиять на решение избирательной комиссии. В утверждении своего трудового статуса наибольшей популярностью пользовалось подчеркивание трудового характера деятельности в настоящий момент – занятие сельским хозяйством, работа на производстве, служба в советских учреждениях. Так, 18 чел. отмечали, что они хлеборобы, а 14 обращали внимание комиссии на то, что сельское хозяйство является для них основным занятием. Еще 15 «лишенцев» заявляли о своем труде в качестве рабочих, 10 – в качестве служащих. Помимо этого, значительная часть «лишенцев» указывали на свое социальное происхождение из крестьян, бедняков, трудящихся (22 чел.), другие обращали внимание комиссии на то, что рано начали трудовую жизнь (7 чел.) и занимаются в настоящее время общественно-полезным трудом (6 чел.).
К отрицанию «нетрудового» статуса чаще прибегали церковнослужители, священники же практически не пытались оспорить факт служения в церкви. В зависимости от подробности изложения обстоятельств, связанных с лишением избирательных прав, ходатаи могли в своих заявлениях останавливаться на причинах, побудивших их поступить на службу в церковь, а также жаловаться на тяжелую жизнь, в надежде найти снисхождение у членов комиссии. Чаще всего «лишенцы» просили учесть их плохое здоровье, большую семью, пожилой возраст и сложное материальное положение.
В попытках добиться восстановления в избирательных правах некоторые стремились доказать свою лояльность советской власти. Как правило, это выражалось в акциях открытого разрыва с церковью. Из данной выборки о своем окончательном отказе от службы в церкви заявляли 23 апеллянта. Второе место по численности (14 чел.) занимали те, кто трудился или же выражал «горячее» желание трудиться на благо советского государства. Далее по убывающей идут такие доводы: отсутствие взысканий со стороны советской власти (9 чел.), служба в Красной армии (5 чел.), членство в профсоюзе (5 чел.), глубокое раскаяние в своей прошлой деятельности (5 чел.), положительные характеристики партийных или советских работников, коллег по службе (4 чел.), участие (хотя бы косвенное) в революционной деятельности и в установлении советской власти (3 чел.), активная борьба с религией (2 чел.).
В обращениях к органам власти часто (в 40 % дел) встречается несогласие с фактом лишения избирательных прав. В конце заявлений фигурируют просьбы внимательно рассмотреть ходатайство или жалобу и восстановить в избирательных правах. Несмотря на стремление добиться положительного решения, «лишенцы» достаточно редко в обращениях к избирательным комиссиям напрямую просили о нисхождении и милости.
Среди обращений представителей духовенства, лишенных избирательных прав, в органы власти следует выделить несколько тактик поведения, связанных непосредственно с должностью «лишенца» в церковной структуре – священнослужители, церковнослужители, монахини.
Заявления священнослужителей подразделялись на два вида: принадлежащие продолжавшим служить в церкви и тем, кто сложил с себя сан. Первые, представленные исключительно сельскими священнослужителями, помимо избирательных комиссий, часто обращались в налоговые комиссии разных уровней. Лейтмотивом их заявлений являлось несправедливое налогообложение. Помимо доказательств неправильности подсчета их доходов, в данном виде заявлений типичны сетования на тяжелую жизнь, а именно, слабое здоровье, сложное материальное положение, невозможность прокормить большую семью.
Священнослужители, оставившие церковь, обращались с ходатайствами именно о восстановлении в избирательных правах. Те из них, кто уже давно сложили с себя сан, уверенно ссылались на инструкции о выборах, доказывая незаконность лишения их избирательных прав. При этом у них не было необходимости особо раскаиваться за свою прошлую деятельность. Так, бывший томский священник А. И. Васнецов (службу оставил в 1919 г., затем работал в различных советских учреждениях, был лишен избирательных прав в 1929 г.) настаивал на том, что «отказ Горизбиркома в восстановлении меня в избирательных правах я нахожу неправильным и подлежащим отмене, в виду нарушения статьи 69 (пункт 2) Конституции РСФСР…» 2. Лишение избирательных прав незаконным считали пять священнослужителей, а восемь указывали, что уже имеют пятилетний трудовой стаж и на основании этого подлежат восстановлению в избирательных правах.
Те священнослужители, которые недавно сняли с себя сан, не могли апеллировать к законодательству и вынуждены были приводить другие аргументы: акцентировать внимание членов избирательной комиссии на своем разрыве с церковью, отрицательном отношении к религии, каяться за свое прошлое. Градация данного типа заявлений идет от простой констатации факта оставления службы в церкви до яростного отрицания религии и активного стремления доказать свою преданность советской власти. О решительном разрыве с церковью, отказе от религии заявляли 14 священников и четыре дьякона.
«Разоблачать контрреволюционную сущность религии» 3 особенно стремились бывшие обновленческие священнослужители. Содержание заявлений обновленческих священнослужителей изобилует заверениями в преданности власти, высказываниями о вреде религии. Так, бывший обновленческий священник А. Н. Махровский (с. Суздалка Доволенского района) в своем заявлении М. И. Калинину дал себе следующую характеристику: «протоиерей обновленчества в с. Суздалке… отказавшийся добровольно в 1930 г. от своего прежнего положения и занятия взамен грядущих радостей и мероприятий социалистического строя и жизни» 4. Впрочем, радикальность заявлений не зависит напрямую от принадлежности к тому или иному течению, резко негативные отзывы о религии имеются и у оставивших службу священнослужителей тихоновской ориентации.
О причинах, побудивших поступить на службу в церковь, писали в своих заявлениях около трети апеллировавших к власти священнослужителей. Большинство из них описывали сложные жизненные обстоятельства, некоторые указывали, что служили по своей темноте, неведению и заблуждению, а разобравшись в обстоятельствах, оставили церковь. Как отмечал в своем заявлении обновленческий священник М. И. Светушков (с. Ярки Доволенского района), «…по своему недоразумению и недальновидности я в 1924 г. в июле поступил попом…» 5.
Помимо оправданий в своей прошлой деятельности, часть священнослужителей-«лишенцев» стремилась убедить власть в своей преданности. В доказательство собственной лояльности священнослужители вспоминали свои былые заслуги перед советской властью. Так, бывший священник с. Зырянское Зырянского района Томского округа К. Н. Ильинский в качестве одного из важных аргументов приводил тот факт, что во время гражданской войны ему пришлось пострадать от белых карательных отрядов за связь с партизанским отрядом 6.
Большинство церковнослужителей в своих заявлениях в органы власти стремилось отмежеваться от статуса «служителя религиозного культа» и прибегало к трем основным тактикам. Наиболее популярной была попытка представить себя в качестве любителей пения (21 чел.). На втором месте находится утверждение, что должность псаломщика исполнялась временно и безвозмездно (12 чел.). Наконец, некоторые псаломщики (5 чел.) в качестве доказательства того, что таковыми они не являлись, приводили собственную малограмотность.
В обращениях к членам избирательных комиссий 48 % церковнослужителей указывали на неправильность лишения их избирательных прав, высказывая в большинстве случаев возмущение и негодование по этому поводу, и лишь несколько псаломщиков считали это просто ошибкой и недоразумением. Кроме того, пять церковнослужителей связывали лишение избирательных прав с происками своих недоброжелателей.
Как и священники, некоторые церковнослужители апеллировали к статьям Конституции или инструкциям о выборах. Так, псаломщик И. Т. Ефимов (с. Кунчурук Бо-лотнинского района) доказывал членам избирательной комиссии, что, согласно Конституции, лишаются избирательных прав те служители культа, для которых служба в церкви является источником существования, следовательно, те, у кого основное занятие сельское хозяйство, не должны лишаться избирательных прав. Соответственно автор жалобы делал вывод, что он «лишен избирательных прав за свои религиозные убеждения, и нарушена ст. 68 Конституции…» 7.
С позицией уверенности в собственной правоте связано и то, что, в отличие от бывших священнослужителей, псаломщики не столь усердствовали в доказательстве своей лояльности к власти. Между тем некоторые из церковнослужителей все-таки отмечали свои заслуги перед советской властью, к которым они в первую очередь относили службу в Красной армии и участие в революционной деятельности.
Причины, побудившие псаломщиков занять эту должность, освещаются в одной трети личных дел данной группы. Чаще всего церковнослужители указывали, что слу- жили временно, за неимением постоянного псаломщика, по настоятельной просьбе общины или же вследствие каких-либо обстоятельств. Часть псаломщиков (5 чел.) оправдывались тем, что служили в церкви по своей темноте и неведению: «…когда я узнал, что духовенство затемняло нам головы и… можно обойтись без религии и совецкая власть запрещает обманывать народ, я бросил держать связь с духовенством…» 8.
В отличие от священнослужителей, псаломщики значительно реже сообщали об отказе от службы в церкви, хотя такие заявления тоже встречаются: «…желаю быть в рядах рабочего класса, отрекаюсь от всего старого…» 9; «…порвал всякую связь с попами и религией раз и навсегда…» 10. Тактика раскаяния не пользовалась такой популярностью у церковнослужителей, потому что в связи с особенностью их положения им проще было поставить под сомнение сам факт служения в церкви и принадлежности к служителям религиозного культа.
Позиция бывших послушниц, причисляемых властями к монахиням, состояла в отрицании своей принадлежности к служителям религиозного культа. В качестве аргументов в пользу восстановления в избирательных правах ими приводились крестьянское происхождение и трудовая деятельность после ухода из монастыря. В заявлениях бывших послушниц преобладают сетования на жизнь, выражавшиеся в указании на преклонный возраст, слабое здоровье и невозможность зарабатывать себе на жизнь. Отмечался и тот факт, что в монастыре они оказались не по своей воле, а были отданы туда в детстве родителями.
Из 104 «лишенцев», обращавшихся с заявлениями, положительного решения добилось 42 %. В поселенческом разрезе (город – село) результаты обращений оказались следующими. Большинство подававших заявления бывших городских священнослужителей добивались позитивного решения. Ситуация же с восстановлением в избирательных правах духовенства сельской местности складывалась значительно сложнее (восстановлено 20 %).
При сравнении аргументов всех священно- и церковнослужителей с аргументами тех, кто добился восстановления, невозможно выделить один или несколько безогово- рочно работающих приемов. В то же время данные проведенного нами анализа позволяют выделить среди аргументов более успешные и менее успешные.
Так, малоуспешными необходимо признать тактики псаломщиков доказать, что в церковь они ходили как любители пения (6 чел. восстановлены, 15-ти отказано) и исполняли данную должность временно и безвозмездно (2 восстановлены, 10-м отказано).
Почти в равной мере оказались результативными или не успешными аргументы: работа в советских учреждениях (6 чел. восстановлены, 4-м отказано), причисление себя к трудящимся, работа на производстве (9 восстановлены, 6-м отказано), занятие сельским хозяйством (7 восстановлены, 10-м отказано), подчеркивание факта оставления службы в церкви (15 восстановлены, 18-ти отказано), отрицание факта принадлежности когда-либо к служителям культа (8 восстановлены, 6-м отказано), оправдание службы различными жизненными обстоятельствами (14 восстановлены, 12-ти отказано). Сетования на жизненные тяготы также не оказывали особого влияния на решение комиссии. В частности, из числа тех, кто жаловался на плохое здоровье, восстановлены 6 чел., 9-м отказано.
Достаточно успешными являлись такие аргументы, как наличие пятилетнего трудового стажа (9 чел. восстановлены, 3-м отказано) и ссылка на инструкции о выборах (10 восстановлены, 4-м отказано). В то же время аргументированная апелляция к соблюдению законодательства не гарантировала положительного решения.
В целом, на основе проведенного нами анализа текстов заявлений священно- и церковнослужителей прослеживаются три основные тактики поведения, которых при- держивались заявители: на одном полюсе находились те, кто отстаивал свои гражданские права и не отказывался от веры, на другом – те, кто открыто отвергал религию и заявлял о готовности с ней бороться. Промежуточное между ними положение занимали те, кто, оставив службу в церкви, использовали и апелляции к законодательству, и заверения в своей лояльности к власти, но избегали при этом негативных высказываний о вере. Данную позицию, которой придерживалось большинство, следует охарактеризовать как поведенческий конформизм.
BEHAVIOR TACTICS OF THE CLERGYMEN-«LISHENTSY» IN THE STRUGGLE FOR RESTORATION OF VOTING RIGHTS IN WEST SIBERIA (THE MIDDLE OF 1920s – 1930s )
Список литературы Тактики поведения священно-и церковнослужителей-"лишенцев" Западной Сибири в борьбе за восстановление в правах (середина 1920-x – середина 1930-x годов)
- Давыдова Н. А. Отношение органов Советской власти к служителям религиозных культов в Севастополе в 1920-1930-е гг. // В поисках утраченного единства: Сб. ст. / Гос. архив Севастополя. Симферополь, 2005. URL: http://www.gosarhiv.sev.net.ua/ fulldoc/2006-03/Davidova.shtml (дата обращения 17.03.2012).
- Мавлютова З. Ш. Лишение избирательных прав православного духовенства (на материалах Тюменского и Тобольского округов Уральской области 1920-х гг.) // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Серия: История. 2009. Вып. 33, № 23 (161). С. 52-57.
- Русина Ю. А. Характеристика лишенных избирательных прав за связь с религиозным культом на Урале в 1920- 1930-е гг. // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917-1980-е гг.). Ниж. Тагил, 1997. С. 119-129.
- Тихонов В. И., Тяжельникова В. С., Юшин И. Ф. Лишение избирательных прав в Москве в 1920-1930-е гг. М., 1998. 256 с.