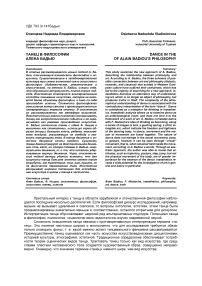Танец в философии Алена Бадью
Автор: Осинцева Надежда Владимировна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается новый подход А. Бадью, описывающий взаимосвязь философии и искусства. Существовавшие в западноевропейской культуре три схемы возможной связи искусства и философии (дидактическая, романтическая и классическая), по мнению А. Бадью, изжили себя, что обусловило актуальность поиска нового подхода. Инэстетика становится альтернативным способом понимания искусства, которое не является более объектом философии, а само по себе производит истины. Сложность философского осмысления танца связана с противоречивостью интерпретации термина «танец». В инэстетике он рассматривается как метафора мышления. Инэстетический анализ позволяет воспринимать танец как антропологическое событие и не ограничивает его рамками произведения искусства. А. Бадью соотносит танец с идеей Ф. Ницше о мышлении как становлении, используя серию образов (птицы, бьющего ключа, ребенка, неосязаемого воздуха), указывающих на свободу и легкость танцующего тела. В танце движение и источник движения слиты воедино. Сущность танца демонстрирует не действительное движение, поза, жест, но, говоря словами А. Бадью, «виртуальное» движение, т. е. то, что осталось удерживаемым внутри движения. Через инэстетический подход автору удалось выявить, что для сущности танца большее значение имеют такие атрибуты, как траектория, поза, шаг, прыжок, но не физическое перемещение тела. Инэстетика раскрывает широкий потенциал для исследования искусства в целом и танца в частности.
Ален бадью, ф. ницше, инэстетика, философия, искусство, танец, истина
Короткий адрес: https://sciup.org/149134175
IDR: 149134175 | УДК: 793.3+141Бадью | DOI: 10.24158/fik.2021.4.4
Текст научной статьи Танец в философии Алена Бадью
Пристальный интерес к танцу в области зарубежной и отечественной философии наблюдается последние несколько десятилетий. Если философский дискурс исследований, например, музыки не вызывает удивления и скепсиса, то вопросы онтологии, эстетики, этики танца были проанализированы значительно меньше и, соответственно, остаются открытыми для дискуссии. Интерпретация танца обусловливает широкий ряд альтернативных подходов. Потенциал танца в философии, психологии, социологии явно недостаточно изучен современной наукой.
Сложность осмысления танца связана с противоречивостью интерпретации термина «танец». Это понятие настолько широко и многозначно, что для исследования требуется обязательно оговорить фокус, т. е. какой именно аспект танцевального феномена рассматривается. Преимущественно танец оценивался как часть искусства искусствоведческими дисциплинами, историей культуры, этнографией, эстетикой. Традиционное определение обеспечивает потребности теории сценических видов танца. Трактовать танец только как вид искусства, где средствами пластики человеческого тела создается художественный образ, совершенно неправомерно. Очевидно, что значение термина «танец» намного шире, чем вид искусства.
Есть подходы, которые рассматривают философию танца на пересечении с эстетикой, антропологией, лингвистикой. Понимание танца французским философом Аленом Бадью становится еще одним альтернативным модусом философского осмысления танца. А. Бадью расширяет границы и открывает новые диапазоны исследования танца в философском дискурсе через инэстетику как принципиально новую схему отношений философии и искусства.
-
А. Бадью под инэстетикой понимает такую позицию, при которой не философия интерпретирует истину в искусстве, а «искусство само по себе является производителем истин» [1, с. 7]. Таким образом, инэстетика может выступать своего рода методологией философского рассмотрения искусства. Обобщив взаимоотношения философии и искусства в истории западноевропейской культуре, философ выделил три схемы возможной связи искусства и философии: дидактическую, романтическую и классическую.
В дидактической схеме искусство рассматривается с инструментальной точки зрения. Оно находится под контролем со стороны философии, которая выступает мерилом воспитания. Последнее, в свою очередь, должно быть мерилом искусства. Согласно Платону, мимесис заключается в том, «что искусство имитирует не вещи, а сам эффект истины», как поясняет А. Бадью [2, с. 10]. В дидактической схеме взаимоотношения искусства и философии истина сообщается искусству извне, смысл искусства заключается «не в самих произведениях, а в эффектах, оказываемых на зрителя» [3, с. 11].
В романтической схеме, по мнению А. Бадью, искусство воплощает истину, тогда как философия лишь указывает на нее косвенно. Основной тезис этой системы сводится к тому, что «одно лишь искусство способно свидетельствовать об истине» [4, с. 11]. Несмотря на то что эта позиция противоположна по сути дидактической схеме, между ними не возникали споры и противоборства.
Согласно А. Бадью, классическая схема возникает благодаря Аристотелю, который заключил «мирный договор» между искусством и философией. Данная схема исключает из искусства познание, т. е. предназначение искусства не в том, чтобы претендовать на истину, а в «успокоении страстей», или, по Аристотелю, в «катарсисе». Искусство в данном случае полностью принадлежит к области воображаемого и «сосредоточено на своем воздействии, на публичном процессе» [5, с. 13].
Инэстетика – принципиально новая схема, предложенная А. Бадью, при которой «искусство само по себе есть истинностная процедура» [6, с. 17]. В инэстетике искусство понимается как «мысль, продуктом которой является реальность (а не эффект реальности)» [7, с. 17]. Мысли и истины, активируемые ею, несводимы к другим истинам – научным, религиозным, политическим. Данные истины существуют только в области искусства и нигде больше, т. е., согласно А. Бадью, «искусство полностью равнообъемно истинам, которые оно расточает» [8, с. 17].
Философ, размышляя об «искусстве как об имманентном производстве истин», выходит на проблему соотношения конечного и бесконечного. Он ставит вопрос: что может быть единицей определения искусства? Можно ли понимать под искусством отдельное произведение, автора-творца или нечто другое? Посредством бесконечности истина ускользает от догматичности знания. Однако произведение искусства, по мнению А. Бадью, «предстает как конечный объект, ограниченный пространством и/или временем». Если произведение – это «единственная конечная вещь», то искусство есть создание «внутренне конечного множества» [9, с. 19]. М.В. Козлова, рассматривая искусство как условия философии в инэстетике А. Бадью, отмечает, что «связь между конечностью произведения искусства и бесконечностью истины следует искать не в единичном произведении, но в истинностной процедуре, включающей в себя множество произведений искусства» [10, с. 49]. По большому счету не произведение считается истиной, а художественная процедура, инициированная событием.
Философия в данном контексте не сводится к тому, чтобы мыслить об искусстве, поскольку искусство само по себе мысль, которая себя мыслит. Не являясь более объектом философии, искусство в инэстетике рассматривается как производство истин. «Философия, имеющая дело с истинами искусства, может только описывать влияние последних на философию» [11, с. 49]. Новую схему инэстетики А. Бадью применяет к четырем видам искусства: поэме, театру, кинематографу и танцу.
В начале главы «Танец как метафора мышления» А. Бадью соотносит танец с идеей Ф. Ницше о мышлении как становлении, как активной мощи. Очевидно, что французский философ разделяет ницшеанскую трактовку танца, поскольку приводит систему метафор, в которую включен и танец. Вся серия образов (птица, бьющий ключ, ребенок, неосязаемый воздух) рассеивает дух тяжести. Танец – это прежде всего образ мысли, лишенной духа тяжести. «Теперь я легок, теперь я летаю, теперь я вижу себя под собой, теперь Бог танцует во мне» [12, с. 43].
В метафорической связке «танец и птица» речь идет о том, что в танце раскрывается образ полета. А. Бадью находит у Ф. Ницше образ ребенка, который описывает третье превращение духа в «Заратустре». Танец – это невинность, забвение, новое начинание, потому что танцующий забывает о том, что его тяготит; будучи освобожденным от культурных и социальных условностей, он заново изобретает самого себя в танце.
Одним из самых красивых образов танца А. Бадью считает «самокатящееся колесо», потому что танец «подобен кругу в пространстве, но такому кругу, который сам себе кладет начало, чертит сам себя» [13, с. 65]. Позы, фигуры, движения в танце сами по себе являются источником, а не следствием внешних причин. Это сопоставимо с образом бьющего ключа, так как танцующее тело «фонтанирует», просто живет, а не работает, не напрягается. Наконец, метафора неосязаемого воздуха связана с соотношением в танце «вертикали и притяжения», которые проходят через танцующее тело и демонстрируют, как земля и воздух меняются местами, пронизывая друг друга. «Для танца земля мыслится чем-то насыщенным кислородом, танец наделяет землю способностью дышать» [14, с. 65].
-
А. Бадью не отрицает, что эти образы на первый взгляд могут показаться наивными, однако за литературно-экспрессивным стилем Ф. Ницше стоит его «философия жизни». По мнению французского философа, Ф. Ницше убежден, что «мысль реализуется в том, в чем она зарождается» [15, с. 65]. В этом смысле танец передает «идею мысли как имманентной интенсификации» [16, с. 65].
Традиционно искусство танца ассоциируется с тренированным телом, виртуозными движениями, подчиненными музыкальному ритму или внешней идее. Однако это крайне сужает понимание танца. В последнем можно выделить несколько модусов существования. Например, в архаичном танце ярко представлен модус психотехники. Следует отметить, что и современный танец не лишен полностью проявлений этого модуса. В полисах Древней Греции в танцевальной культуре доминирует модус формирования этоса. Кроме того, танец может выступать как форма социальной коммуникации, что становится неотъемлемой частью куртуазного общества [17, с. 185]. Модус профессионального искусства фигурирует в танце исторически позднее всего (XVII–XVIII вв.).
Однако сценический танец, где средствами человеческой пластики передается художественный образ для зрителя, максимально удален от сущности танца. Профессиональные танцоры имеют строго установленный каждым направлением диапазон и шаблоны движений, которые подлежат копированию. Как мы отмечали ранее, основоположница танца модерн А. Дункан «отвергала строгие каноны классического танца и, наконец, подвергла критике всю этику и эстетику балетно-театрального перформанса» [18, с. 109]. Целью осуществления танцевального произведения является передача художественной идеи, внеположной самому танцу. Сценический танец должен произвести эффект на зрителя: воспитание или катарсис. Таким образом, сценический танец, как и модус профессионального искусства, удален от онтологии танца в антропологическом аспекте. Танец не сводим только к искусству. Сценическое танцевальное произведение по сущности ближе к театру, а не к танцу.
Несмотря на то что А. Бадью использует в инэстетике термин «искусство», танец он рассматривает как антропологическое событие и не ограничивает его рамками произведения искусства. Танец как метафора мышления противоположен послушному, порабощенному телу. А. Бадью упоминает ницшеанское противопоставление, где, с одной стороны, «военный парад», поставленное в колонну тело отбивает заданный ритм, а с другой – легкое и свободное танцующее тело, словно «едва касающееся земли, словно парящее облако» [19, p. 226]. В этом смысле важен мотив движения, он привнесен не извне, но разворачивается из самого себя. Движение и источник движения слиты воедино.
Такого рода движение не связано с перемещением или трансформацией. Для инэстетиче-ского понимания сущности танца движение физическое имеет малое значение. К онтологическим атрибутам танца скорее можно отнести позу, шаг, прыжок. А. Бадью удачно сравнивает движение в танце с «траекторией, которая, в свою очередь, рассекает и поддерживает вечно уникальное утверждение» [20, с. 66]. Для философа танец не сводится как к сценическому произведению, так и к телесному импульсу. Он избегает утверждения, что танец представляет собой исключительно экстаз или несдерживаемую дикую энергию тела. «Танец есть мысль в ее утонченности», потому что демонстрирует латентную сдерживающую силу. Танец делает зримой имманентную сдержанность движений. Таким образом, о сущности танца говорит не действительное движение, поза, жест, но, по утверждению А. Бадью, – «виртуальное» движение. Именно то, что осталось удерживаемым внутри движения, в танце сливается с явственным движением. Танец, по мнению А. Бадью, в высшем своем проявлении должен был бы «демонстрировать странное совпадение не только проворства и медлительности, но и жеста и отсутствия жеста» [21, с. 68].
В заключение можно отметить, что инэстетика А. Бадью позволила проанализировать танец не как конечное произведение искусства, но как пространственное событие, которое бесконечно через совокупность этих событий. Удалось выделить сущностные характеристики танца не в движении, а в статике. Профессионализм в танце был противопоставлен свободе, являющейся онтологической необходимостью для бытия танца. Инэстетика открывает новые возможности в понимании танца, выходящие далеко за сферу искусства и искусствоведения, это оправдано тем, что современному миру нужны новые подходы к его осмыслению во всех его проявлениях.
Ссылки:
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Танец в философии Алена Бадью
- Бадью А. Малое руководство по инэстетике / пер. с фр. Д. Ардамацкой, А. Магуна. СПб., 2014. 156 с.
- Козлова М.В. Инэстетика Алена Бадью: искусство (поэма) как условие философии // Известия ВГПУ. 2014. № 8 (93). С. 46-50
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра: книга для всех и ни для кого / пер. с нем. Ю.М. Антоновского. М., 2007. 333 с
- Костецкий В.В., Осинцева Н.В. ОРХНШ & ХАРИИ: когда танец больше чем танец // Эстетическая антропология: коллективная монография. Тюмень, 2007. С. 136-197.
- Осинцева Н.В. Рациональное и иррациональное в танце Айседоры Дункан // Общество: философия, история, культура. 2020. № 5 (73). С. 108-111. DOI: 10.24158/fik.2020.5.22
- Botha C. Dance and/as Art: Considering Nietzsche and Badiou // Thinking through Dance: Philosophy of Dance Performance and Practices. Milton Keynes UK, 2013. P. 224-240.