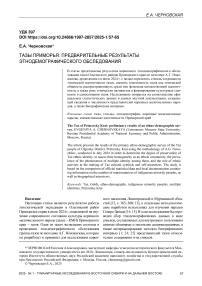Тазы Приморья: предварительные результаты этнодемографического обследования
Автор: Черновская Е.А.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific
Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты первичного этнодемографического обследования тазов Ольгинского района Приморского края по методике А.Г. Новожилова, проведенного в июле 2024 г. с целью определить степень сохранности этнической идентичности тазов, оценить гомогенность тазов как этнической общности, распространенность среди них феномена множественной идентичности, а также роль этнических активистов в формировании культурных символов и самосознания тазов. Исследование опирается на сопоставление официальных статистических данных и данных местной документации, содержащей сведения о численности представителей коренных малочисленных народов, а также биографические интервью.
Тазы, гольды, этнодемография, коренные малочисленные народы, множественные идентичности, приморский край
Короткий адрес: https://sciup.org/170209576
IDR: 170209576 | УДК: 397 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-1/57-65
Текст научной статьи Тазы Приморья: предварительные результаты этнодемографического обследования
Настоящая статья является результатом работы этнологической экспедиции в Ольгинский район Приморского края в июле 2024 г., нацеленной на изучение современного состояния культуры коренного малочисленного народа (далее – КМН) Приморского края – тазов. Одна из задач экспедиции состояла в проведении этнодемографического обследования группы тазов по методике А.Г. Новожилова, которую он разработал и применял для исследования корен- ного населения Ленинградской и Мурманской областей [12, с. 365–368; 13], а отдельные методологические наработки использовал для изучения народов Северо-Запада [14; 15]. В ходе исследования был проведен сбор этнодемографических данных в виде списков, составляемых для внутреннего пользования самими общинами и местными администрациями, а также интервьюирование методом биографических интервью [1; 24; 25] представителей тазов относительно содержания этих списков.
Тазы были официально признаны КМН в 2000 г. [18]. Согласно последней переписи населения, численность тазов в России составляет 236 чел., из которых 221 чел. проживает в Приморском крае [7]. Тазский язык, который, по-види-мому, сегодня используется очень ограниченно, представляет собой северо-восточный диалект китайского языка со значительным пластом тунгусоманьчжурской лексики [20, с. 5]. Распоряжением Правительства РФ № 631-р от 08.05.2009, утвердившим «Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ», определена территория компактного проживания КМН Приморского края, в т.ч. и тазов. Эта территория объединяет пять муниципальных районов: Красноармейский, Лазовский, Ольгинский, Пожарский и Тернейский [19]. Кроме тазов в Приморском крае проживают другие народы, имеющие статус коренных малочисленных, – удэгейцы и нанайцы (численность 715 и 302 чел. соответственно) [7].
Методика этнодемографического обследования
Предпринятое нами этнодемографическое обследование было призвано решить следующие задачи: 1) определить степень сохранности этнической идентичности тазов, поскольку в литературе высказывались предположения о ее постепенном размывании [4, с. 392]; 2) оценить гомогенность тазов как этнической общности, а также распространенность среди них феномена множественной идентичности; 3) оценить роль этнических активистов в формировании культурных символов и самосознания тазов.
Использование методики А.Г. Новожилова предполагает оценку соотношения количества тазов, формально зафиксированного переписью населения, и количества людей, реально или гипотетически имеющих «тазовские корни» и так или иначе соотносящих себя или соотносимых составителями списков с культурой тазов, т.е. «потенциальных носителей культуры» [12, с. 366]. Чтобы провести такую оценку, нам необходимо было найти и проанализировать местные документы – списки, в которых указана национальность местных жителей, а затем получить экспертные комментарии относительно указанных в списке людей. Все исследовательские действия проводились в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» [27]: списки анонимизировались, кодировались, все аналитические исследовательские процедуры проводились уже с обезличенными данными.
В ходе работы нам удалось получить три списка, составленных специально для учета жителей Оль-гинского района из числа КМН в хозяйственно-административных целях. Списки содержат в себе информацию, которая отражает точку зрения местных жителей и может не полностью коррелировать с официальными статистическими данными.
Список № 1 был составлен в январе 2009 г. и утвержден главой Ольгинского муниципального района. Он представляет собой перечень граждан из числа КМН, которых семейная община «Чин сан» ежегодно обеспечивает кетой (Полевые материалы автора, далее – ПМА. 2024 г.). Список охватывает жителей Ольгинского городского поселения и всех сельских поселений района 1 . Всего в списке перечисляется 250 чел., из них тазов – 198 чел., гольдов – 25 чел., ненцев – 8 чел., ительменов – 7 чел., нанайцев – 5 чел., коряков – 4 чел., удэгейцев – 2 чел. и тувинец – 1 чел.
Список № 2 был составлен в ноябре 2009 г. и утвержден главой одного из сельских поселений. Он имеет более широкий охват и представляет собой список представителей КМН, проживающих на территории Ольгинского района. Вероятно, этот список тоже использовался для хозяйственных нужд. Он охватывает те же населенные пункты и насчитывает 255 чел., из них тазов – 201 чел., гольдов – 23 чел., ненцев – 8 чел., нанайцев – 5 чел., ительменов – 4 чел., удэгейцев – 2 чел., тувинец – 1 чел. В нем также присутствуют еще 10 жителей района без указания национальности. В конце этого документа приведен еще один маленький список – сводные данные за 2007 г. по численности КМН Ольгинского района, которые обеспечивались кетой. Данные приведены по сельским поселениям, список насчитывает 248 чел. (ПМА. 2024 г.).
Список № 3 охватывает только Веселояровское сельское поселение, к которому относятся два населенных пункта – с. Веселый Яр и п. Ракушка. Этот список, составленный и обновляемый главой поселения, был актуален на момент проведения экспедиции (лето 2024 г.) и насчитывал 24 чел., из которых тазов – 22 чел. и гольдов – 2 чел. (ПМА. 2024 г.). Список был составлен по инициативе одного из работников администрации из числа КМН («Список вот этот вот – это мои жители… Я же веду учет… Ну, для себя» (ПМА. 2024 г.)), однако в ряде случаев он может справочно использоваться в хозяйственноадминистративных целях.
Как мы видим, два первых списка имеют следующие особенности. Во-первых, они не ограничены только КМН Приморского края и включают те народы, чьи места традиционного природопользования находятся в других регионах России. Во-вторых, списки включают гольдов, которые отсутствуют в списке КМН. Как в современной эт-
-
1 Сельские поселения Ольгинского муниципального района: Пермское (с. Пермское, с. Николаевка), Веселояровское (с. Веселый Яр, пос. Ракушка), Тимофеевское (п. Тимофеевка), Милоградовское (с. Милоградово), Моряк-Рыболов-ское (п. Маргаритово) и Молдавановское (с. Михайловка, п. Горноводный).
нографической науке [3], так и на официальном уровне этот этноним считается устаревшим названием нанайцев [9, с. 49], однако, как показали опросы в ходе полевого исследования, упомянутые в списках гольды считают себя более близкими к тазам, а не к нанайцам.
Для выяснения соотношения данных местной документации и официальных статистических данных эти списки интересно сравнить с данными переписи населения 2010 г. [5], наиболее близкими по времени к периоду составления первых двух списков. Опубликованные цифры по сельским поселениям Ольгинского района оказываются меньше тех, что приведены в двух местных списках (иногда в два раза). Найти аналогичные опубликованные микроданные по другим годам переписей пока не удалось. Сведение данных в таблицу, представляющую численность жителей по каждому сельскому поселению всех муниципальных районов Приморского края с указанием их национальности, по-видимому, было единоразовой инициативой Приморскстата. Рассмотрим примеры расхождения данных о численности тазов Ольгинского района (табл. 1). Так, численность тазов, указанная в местном списке, составленном главой Молдавановского сельского поселения и деятельным членом общин КМН, на 32% выше численности по официальным данным.
Таблица 1
Численность тазов Ольгинского района Приморского края по данным переписи населения 2010 г. и местной документации
|
Данные ВПН-2010, чел. |
Данные списка № 2 (2009 г.), чел. |
Отношение данных списка № 2 к данным ВПН-2010, % |
|
|
Ольгинское городское поселение |
8 |
16 |
+ 100% |
|
Веселояровское сельское поселение |
28 |
36 |
+ 28,5% |
|
Моряк-Рыболовское сельское поселение |
К2 |
1 |
– |
|
Милоградовское сельское поселение |
К |
3 |
– |
|
Молдавановское сельское поселение |
77 |
101 |
+ 31% |
|
Пермское сельское поселение |
23 |
28 |
+ 21,7% |
|
Тимофеевское сельское поселение |
11 |
20 |
+ 81,8% |
|
ИТОГО |
152 |
201 |
+ 32,2% |
Источники : [5]; ПМА. 2024 г.
Качественное несоответствие местных и официальных данных заключается в следующем. В то время как в результатах переписи 2010 г. численность нанайцев в Ольгинском районе – 31 чел. [5], в списке № 2 их насчитывается 5 чел., но зато гольдов – 23 чел. Такая же ситуация наблюдается и по Молдаванов-скому сельскому поселению в частности (ПМА. 2024 г.). С большой долей вероятности, в итоговые таблицы по результатам переписи населения в число нанайцев вошли собственно нанайцы и те, кто записал свою национальность как «гольд». Ниже будет показано, что отнесение гольдов Ольгинского района к нанайцам во многом ошибочно, в связи с чем можно заключить, что результаты переписи населения искажают этническую ситуацию.
В итогах переписи 2020 г. в таблице «Варианты ответов на вопрос “Ваша национальная принадлежность”», относящейся ко всей России, численность гольдов составляет 49 чел. [7], в итогах переписи 2010 г. – 73 чел. [6, с. 2909], в итогах переписи 2002 – 62 чел. [11, с. 933]. Однако сколько людей, идентифицирующих себя как гольды, проживает в Приморском крае и где они проживают, по опубликованным источникам установить невозможно, поскольку Приморскстат не предоставляет такую информацию.
В условиях непродолжительной экспедиции и ограниченных возможностей по сбору бюрократических материалов было принято решение спрашивать информантов, в какие списки (или документы), по какому поводу и под какой национальностью они заносили себя или своих детей. Эта информация позволила оценить значение этнических категорий для информантов, выявить конкретные формы проявления множественности и ситуативности этнической идентичности, проследить ее связь с правовой действительностью. Среди списков и документов, упоминаемых информантами, встречаются свидетельства о рождении детей, советские паспорта, военные билеты, а также документы, подаваемые ежегодно в Приморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для получения квот на «отлов гидробионтов». Последний тип документов особенно важен, т.к. он связан с правовым статусом КМН и имеет непосредственное отношение к этничности.
Насколько можно судить по данным литературы и предварительным результатам полевой работы, в Ольгинском районе довольно ощутимо проявляется надэтническая идентичность «коренных», которая объединяет вместе тазов, удэгейцев, нанайцев и другие этнические группы, имеющие правовой статус КМН. Именно «коренные» (в целом, без подразделения на этнические группы) сталкиваются с бюрократией и администрацией, когда встает вопрос о правах на природопользование. Очевидно, что правовой статус КМН играет свою роль в поддержании этой групповой идентичности: сама правовая реальность, закон отделяет их от остальных.
Фиксация идентичности тазов по данным интервью
Согласно данным переписи населения 2002 г., число тазов в Приморском крае составило 256 чел. [8, с. 19], а в России в целом – 276 чел. [8, с. 10]. На протяжении XX в. они записывались как удэгейцы, гольды, тазы и ольчи. Несмотря на это, сегодня у тазов есть устойчивая этническая идентичность, которая передается «по наследству» внутри семьи. Собранный полевой материал говорит о том, что для определения себя как таза человеку достаточно иметь одного родителя таза или даже одного родителя смешанного происхождения – практика, которая широко распространена и в других регионах России [2; 26]. Ряд интервью показывает, что, помимо индифферентного отношения к этому вопросу, это может быть обусловлено как идейными, так и практическими мотивами. Одна из тазовок 1950 г. р. указала, что ее дети от русского мужа в их свидетельстве о рождении сначала были указаны как русские, но позже она исправила их национальность на тазов (ПМА. 2024 г.). Это обстоятельство коррелирует с изменениями конца XX в., когда у людей пропал страх или стыд указывать свою национальность. А с начала XXI в. это стало еще и выгодно экономически. Та-зовка 2000-х гг. р. сказала, что в документах своих будущих детей она обязательно запишет их тазами по идейным соображениям (ПМА. 2024 г.).
Один из вопросов, который рассматривает А.Г. Новожилов в рамках этнодемографического обследования, касается соответствия между «носителями традиционной культуры» и «этническими активистами». В отношении тазов этот вопрос имеет характерные особенности. Под культурой тазов в данном контексте понимается тазский язык, определенные верования, обряды и традиции, кухня и материальная культура. В XIX в. огромное влияние на мировоззрение и хозяйство тазов имела китайская культура, однако при этом у них сохранялись и этнические особенности, характерные для других народов Приморья и Приамурья [20, с. 247]. В XX в. на различные сферы жизни тазов оказывали влияние русская и советская культуры. Сегодня культурные особенности тазов обнаружить не так легко. Явные составляющие этнической идентичности тазов, которые выявляются при первом приближении, – это самоназвание и определение своего культурного комплекса через негацию – отделение своей культуры от чужой (ПМА. 2024 г.).
Знания удэгейцев о своей традиционной культуре и творческая энергия, направленная на ее трансформацию и популяризацию, позволили их празднику «Сагди Дава» 3 в 2023 г. попасть в проект «Антология народной культуры» в качестве объекта нематериального культурного наследия народов РФ. Как отмечает А.Ф. Старцев, «как такового, коллективного праздника Сагди Дава у удэгейцев не было. Этот праздник – своеобразное новшество, появившееся после развала Советского Союза. Однако обряд почитания хозяина всех рыб у удэгейцев совершался» [17]. В праздниках «Сагди Дава» Ольгинского района участвовали и тазы, хотя публичных ритуальных действий, манифестирующих культуру тазов, в это время не было, в отличие от манифестации удэгейской культуры. Однако, по сведениям одной из тазовок 2000 г. р., некоторые тазы (в т.ч. ее семья) также отмечают праздник первой рыбы – устраивают пикник в семейном кругу на берегу реки (ПМА. 2024 г.). Таким образом, тазы, не манифестируя свою культуру, сохраняют тем не менее единые для местного историко-культурного ландшафта праздничные обычаи, связанные с рыбным промыслом [10].
Вместе с тем, тазы четко проводят границу между «своей» и «не нашей», в данном случае – «удэгейской», культурой. Иллюстрацией этого явления может служить пример одного телевизионного репортажа, который заявлен как телерепортаж о культуре тазов. В нем демонстрируется «традиционная весенняя закличка», которая не связывается с определенной культурой, создавая у зрителя впечатление, что она (как и весь репортаж) связана с культурой тазов. Молодые девушки одеты в удэгейскую одежду и произносят за-клички на удэгейском языке, однако больше половины девушек, которые участвовали в съемках, были тазовками. При проведении интервью они четко заявили: «Это их (удэгейское. – Прим. авт. ), не наше» (ПМА. 2024 г.).
-
3 В переводе с удэгейского языка – «большая кета».
Впрочем, такое четкое разграничение представители старшего поколения стараются смягчить: «Ну, мы не делимся на тазов, гольдов, удэгейцев. Мы все вместе праздники справляем. Например, “Сагди Дава”. Мы очень благодарны Валентину Андрейцеву за то, что он ведет эту работу и голос коренных вообще слышен» (ПМА. 2024 г.). Эта тенденция прослеживается и в истории общины «Чин сан», которая в 2000 г. появилась как община тазов [20, с. 8, 122], но сейчас с тазами не ассоциируется и не является общиной какой-то конкретной этнической группы. Ее организаторы стараются обеспечить лесными угодьями всех «коренных» в Ольгинском районе. Список № 1 представителей КМН Ольгинского района, составленный руководством общины «Чин сан» для снабжения рыбой, показывает, что руководство учитывало все народы, а не только тазов.
Еще менее заметная гольдская идентичность
Данные, приведенные в монографии о тазах и собранные во время экспедиции, говорят о том, что несколько десятков человек из Ольгинского района Приморского края по этническому самоопределению являются гольдами [20, с. 57]; (ПМА. 2024 г.).
В конце XIX – начале XX вв. гольдами называли нанайцев – как амурских, так и уссурийских (этноним «гольды» они получили от соседнего родственного народа ульчей) [20, с. 34.]. Анализ известных сегодня фамилий тазов показал, что 76,7% из них имеют нанайские (или гольдские) корни [20, с. 69; 21, с. 23–24; 23, с. 250].
Современные гольды (по самоопределению) Ольгинского района, с которыми удалось побеседовать, имеют «тазовские корни» (среди их родителей и прародителей есть тазы) и так или иначе связаны с культурой тазов. Например, одна из опрошенных, гольдячка 1950-х гг. р. знает тазский язык и некоторые обряды (ПМА. 2024 г.). Некоторые из семей, которые при первом приближении кажутся тазовскими, оказываются смешанными гольдско-тазовскими.
Два информанта гольда, работавших в органах муниципальной власти, оценили численность гольдов в 70 чел. и 100 чел. соответственно (ПМА. 2024 г.). Эта оценка превышает официальные данные и отражает мнение местных активистов, которые имеют собственные представления о том, кто «потенциально» является гольдом. Данные о численности гольдов в списках № 1 и № 2 являются, скорее всего, согласованными, т.е. с большой вероятностью жители, указанные в них как гольды, считают себя гольдами, равно как и их воспринимают как гольдов составители списков. На основании этих списков наиболее достоверно можно оценить соотношение численности гольдов (по самоопределению и определению составителей списков) и тазов Ольгинского района: по данным списков № 1 и № 2 численность гольдов составляет 11–12% от численности тазов. Таким образом, если относить к «потенциальным носителям» культуры тазов также и гольдов, которые имеют «тазовские корни» и так или иначе связаны с культурой тазов, то расхождение официальных данных и данных местной документации оказывается еще более существенным: потенциальных носителей культуры тазов оказывается примерно на 47% больше, чем устанавливает перепись населения [5]; (ПМА. 2024 г.).
Существование сегодня гольдско-тазовских семей и гольдов по самоопределению, связанных с культурой тазов, говорит о том, что небольшая группа гольдов (уссурийских нанайцев), образовавших с китайцами семьи, вошла таким образом в состав этнической группы тазов, при этом частично сохранив свою гольдскую идентичность уже внутри семей. По сведениям одной тазовки 1979 г. р., ее мать «по национальности была тазов-кой, а родной брат матери был гольдом» (ПМА. 2024 г.). А.Ф. Старцев также упоминает о другом случае «деления» национальностей родителей между детьми, когда дочери национальность «передается» от матери-нанайки, а сыну – от отца-таза [20, с. 247]. Хотя по мнению одной из наших информантов, которая вспоминала рассказы родителей, в смешанных семьях «было заведено, что женская линия – тазы, а мужская – гольды», и в соответствии с таким разделением записывали и национальность детей в документах (ПМА. 2024 г.).
Рассмотрим далее сюжет, который показывает, как процессы картографирования этнической ситуации, правового оформления и бюрократизации этничности отражаются на местах. Как говорилось выше, до начала XX в. нанайцы десятилетиями назывались своими соседями и администрацией гольдами. В переписи населения 1926 г. фигурирует самостоятельный народ «гольды». Рядом с ним в скобках указано другое синонимичное «имя народа» – «нанай» [16]. Уже в переписи 1939 г. ситуация зеркально переворачивается: «нанай (гольды)» [22]. Начиная с этого момента этническая группа гольдов исчезает из числа «признанных национальностей» и официально становится другим самоназванием признанной национальности «нанайцы». С одной стороны, этнической группе «вернули» ее самоназвание. С другой, к этому моменту некоторые люди уже приняли экзоэтноним «гольды» как самоназвание. Независимо от наблюдаемых культурных особенностей, сила слова и языка – налицо. Это самоназвание, традиция его передачи «по наследству» и связанная с ним идентичность сохранились до сих пор. Оно фиксировалось в паспортах с 1932 г., во множестве других личных документов и ситуаций, где от людей требовалось указывать свою национальность. Например, деды тазовки 1979 г. р. по паспорту были гольдами (ПМА. 2024 г.). Более того, нельзя не думать, что в 1960-е – 1970-е гг. на сохранение гольдской идентичности оказал влияние образ Дерсу Узала, музеи и научно-популярные материалы, в которых рассказывалось о гольдах.
Несмотря на отчетливое самосознание гольдов и их культурную близость к тазам, те, кто записывали и записывают себя как гольды в переписной лист, по результатам переписи входят в перечень как «нанайцы (гольды)». Одним из проявлений своего рода гольдского активизма стала инициатива главы одного приморского поселения подсказать знакомым и родственникам гольдам указать в переписи населения свою «настоящую национальность» (ПМА. 2024 г.). Такая идея мотивировалась тем фактом, что в переписном листе вопрос о национальности открытый. Но так как список национальностей в итогах переписи все же закрытый, указавшие себя как гольды, очевидно, вошли в число нанайцев.
Таким образом, мы наблюдаем, как происходило наслоение меняющейся национальной политики и локальных процессов: сначала появление в документах русской администрации на рубеже XIX–XX вв. экзоэтнонима «гольды», процесс складывания гольдско-тазовских семей (в т.ч. в результате сселения гольдов и тазов в Михайловку) [20, с. 343] и принятие гольдами элементов китайской / та-зовской культуры; затем на высшем правовом уровне переименование «гольдов» в «нанайцев» в 1930-е гг. и вместе с тем увеличение количества советских личных документов с графой «национальность», куда можно было записывать свое «другое самоназвание» – гольд. К этой уже сложной ситуации добавилось признание в 2000 г. тазов, нанайцев и удэгейцев коренными малочисленными народами (понятие «гольды» в этот список включено не было), исключение графы «национальность» из официальной документации, а также формирование рабочей документации (для Федерального агентства по рыболовству, муниципальных органов), основанной на самосознании, что привело к отмеченному выше несоответствию желания местных жителей манифестировать себя как гольдов и сложившейся практики включения гольдов в состав нанайцев.
По сути, любые новые действия приводят к движению границ этнической идентичности, в результате чего одни связи рушатся, а другие появляются или реактуализируются спустя много десятков лет. Может происходить переключение идентичности между двумя родственными этническими группами в смешанных семьях или не- большом смешанном полиэтничном обществе. О той действительности, которая, с одной стороны, плохо поддается бюрократизации и в результате усложняется, а с другой – формирует общее сознание «коренных», говорит комментарий одной тазовки о гольде: «Я-то думала, что он таз, а он, оказывается, удэгеец, он бы не сказал мне – я бы и не знала» (ПМА. 2024 г.).
Фиксация национальности в документах становится важным аспектом хозяйственной (sic!) деятельности для многих представителей КМН. «Ну сегодня он нанаец», – сказала в одном из интервью наша информант про гольда, подразумевая, что в других документах и в другой ситуации человек может записаться под другой национальностью (ПМА. 2024 г.). «Ребята, вам в Москве это трудно понять, но мы здесь просто выживаем! Скажу такую шутку: “Если молдаванам будут давать бесплатно по 2 центнера кукурузы, я запишусь молдаванином”», – сказал один из информантов-тазов с молдавскими корнями (ПМА. 2024 г.).
Заключение
Этнодемографическое обследование тазов показало, что эта этническая группа, как минимум, не обладает угасающим и размытым самосознанием. Тазы четко проводят границу, отделяющую их культуру от культур соседних народов, в частности – удэгейцев и китайцев. Укреплению самосознания способствует тот факт, что тазы являются официально признанным коренным малочисленным народом Приморского края.
Если вслед за носителями культуры признать границы этнической группы тазов четко очерченными, то внутри эта группа оказывается не столь гомогенной. В ее теле просматриваются гольды – родственная как в смысле исторических, так и в смысле семейных связей группа людей с весьма схожей культурой, но иным самоназванием и связанной с ним идентичностью. Культуру гольдов сложно увидеть, так же сложно понять по результатам обследования 2024 г., есть ли что-то, что отличает культуру Ольгинских гольдов от тазов, кроме самоназвания.
Анализ упомянутых списков показывает, что количество «потенциальных носителей культуры» превышает количество тазов, зафиксированных переписью населения, примерно на 32%. Если относить к «потенциальным носителям культуры» и гольдов, то превышение еще значительнее – примерно на 47%. При этом практика ситуативной фиксации национальной принадлежности («запишусь молдаванином») оказывается возможной благодаря тому, что большинство из изученных нами представителей тазов – люди смешанного происхождения, что делает возможным абсолютно легальное изменение записи об этнической принадлежности в документах.
Таким образом, изучение местной этнодемо-графической документации является чрезвычайно важным элементом полевого исследования, а конкретные сведения, содержащиеся в такой документации, позволяют путем дальнейших интервью более четко фиксировать элементы этнического самосознания и особенности современного состояния культуры.