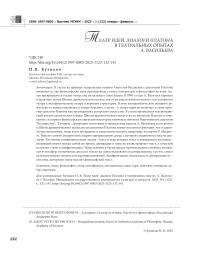Театр идей: диалоги Платона в театральных опытах А. Васильева
Автор: Куликов П.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика и художественная культура
Статья в выпуске: 1 (123), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере театральных опытов Анатолия Васильева с диалогами Платона выявляется, как философские идеи при переводе с языка литературы и философии на язык театра превращаются в идеи театр, как их называет Ален Бадью. В 1990 е годы А. Васильев перешел в практике театра Школы драматического искусства от метода психологического (ситуативного) театра к метафизическому театру и игровым структурам. В этом методологическом повороте режиссера от театра персонажа к театру персоны, а затем к театру идей он включает в свою практику диалоги Платона как пропедевтику актерского искусства. В статье проводится театроведческий анализ сценических этюдов Школы драматического искусства по диалогам Платона в сочетании с историко философским анализом некоторых ключевых понятий Платоновских диалогов "Государство", "Евтидем". Декорации и костюмы в театральных опытах А. Васильева и его коллег в Школе драматического искусства по диалогам Платона имеют несколько функций: это и сценические механизмы, чаще всего абсурдные, и визуальные цитаты, например, из картин Р. Магрит та. Вместе с игрой актеров они создают материальную среду, с которой соединяются тексты диалогов. Различные компоненты идеи театра текст и игра актеров, текст и декорации и костюмы взаимодействуют между собой не прямо, декорации и игра не иллюстрируют текст, а зачастую вступают с ним в конфронтацию. Театр склонен к буквальному прочитыванию сложных концептов и метафор, незначимые детали в тексте на сцене оказываются центральными, так что смысл ситуации иногда меняется на противоположный. Конфронтация, буквальность, реверсивность способы, которыми театр мыслит философский текст.
Философия, театр, метафизика, методология, идея, игра, действие, познание, актер, персонаж
Короткий адрес: https://sciup.org/144163370
IDR: 144163370 | УДК: 740 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-1123-132-141
Текст научной статьи Театр идей: диалоги Платона в театральных опытах А. Васильева
И. Г. Гаман в «Сократических достопримечательностях» [7, с. 438] рисует образ Сократа в окружении софистов как игрока, знающего все честные и нечестные приёмы игры, которому предлагается сесть за стол с шулерами. Но ему неинтересно, так как он знает, что из игры заведомо исключен фактор, составляющий ее суть – случай, а сама игра сведена к ловкости рук. Такую же ситуацию мы видим в «Игроках» Гоголя. Но если Сократ знает, что перед ним шулеры, и отказывается от игры, то Ихарев думает, что знает, но на самом деле не знает, с кем имеет дело, в надежде, что можно «обмануть всех и не быть об-мануту самому» [8, с. 530], соглашается на игру и в итоге оказывается обманут.
Режиссер А. Васильев в одной из своих публичных лекций, на встрече с актерами и студентами творческих ВУЗов в Центральном доме актера им. А. А. Яблочкиной, которая состоялась в 2014-м году, рассказывал, что, начав разбирать эту пьесу со студентами в театральном институте, он столкнулся с непреодолимой трудностью. Репетиции упирались в ключевую сцену, где главный герой, карточный шулер, обнаруживает, что обманут шулерами, устроившими для него маскарад. Сыграть эту сцену в методике психологического театра у актеров никак не получалось. Наконец, режиссер сообразил, в чем дело. Суть методики психологического театра состоит в том, чтобы актер в игре максимально уподобился своему персонажу, сделал переживания персонажа своими. В идеале, как мыслимом пределе такого подхода к игре, дистанция, отделяющая актера от персонажа, должна исчезнуть вовсе. К. С. Станиславский называл это «перевоплощением». Он часто использовал этот термин, чтобы подчеркнуть разницу между искусством театра как представлением и как переживанием, например: «Чтобы добиться переживания зрителя, актеру необходимо прежде всего добиться веры в то, что происходит на сцене. Эту веру внушает прежде всего настоящее переживание самого актера». Понятно, что этот идеал не может быть универсальным принципом театра, потому что иначе после каждой хорошо сыгранной трагедии нужно было бы выносить трупы со сцены и набирать новую труппу. Значит, есть определенный тип пьес, в которых методика психологического театра оказывается неприменима. Но точно так же, как актер должен остаться живым в конце трагедии, выйти на поклон и уйти со сцены, он не может, выходя на сцену, не знать всех обстоятельств и сюжета пьесы. Как смерть на сцене может только имитироваться, так же точно и незнание актер может только имитировать. Но имитирующий на сцене актер не действует, а имитирует действие. Психологический театр обнаруживает свою границу в точке, в которой отождествление актера и персонажа оказывается принципиально невозможным. Единственный выход из этой ситуации – это перестать изображать незнание, а значит перестать поддерживать иллюзию тождества актера с персонажем. Однако это не означает отмену самой игры. Игра продолжается и тогда, когда актер взаимодействует с другими актерами, публикой и со своим персонажем без отождествления с ролью. Более того, с этого момента игра по-настоящему только и начинается. Актеры на сцене все знают, и играют, исходя из знания. А кто же не знает? Не знает персонаж. Взаимодействие персонажей Васильев обозначил как театр борьбы. А взаимодействие актеров, или персон, он назвал театром игры. Персонаж действовать не может, подражая персонажу, актер имитирует действие. По-настоящему действует в театре сам актер, персона, играющий человек.
Переход от театра борьбы к театру игры потребовал разработки новой методики разбора пьесы и техники актерской игры. Что касается актерской техники, здесь Васильев разделил методику психологического театра, разработанную К. С. Станиславским и развитую М. О. Кнебель [9], а именно – методику действенного анализа пьесы, основной техникой которой является актерский этюд, и методику игрового театра, основанную, прежде всего, на вербальных техниках. Что касается методики анализа пьесы, тут режиссеру также пришлось радикально сменить подход. В психологическом театре борьбы действие развивается от исходного события к основному, при этом обстоятельства толкают персонажей, заставляют их действовать. А в театре игры (поскольку актеры уже знают все обстоятельства) порядок действия меняется, оно развивается от основного события. То есть фактически действие разворачивается из будущего к настоящему, телеологически, в обратной перспективе, в том смысле, какой вкладывал в этот термин П. Флоренский [13]. Если персонажа толкают обстоятельства, которые находятся в прошлом, то персону влечет образ идеи, просвечивающей из неясной перспективы.
Позже, будучи руководителем созданной им «Школы драматического искусства», А. Васильев делает следующий шаг, который был начат во время работы с текстами Ф. М. Достоевского и реализован в работе с диалогами Платона. Вот как говорит А. Васильев об этих переходах: «Я стал называть актера персоной и установил отношения между персоной и его персонажем. Но персонаж – это еще человек. Тогда я еще продвинулся вперед и стал заниматься уже не человеком, а идеями, то есть я стал рассматривать не человека, который мыслит, а саму мысль. Тогда это оказались отношения персоны и персонифицированной идеи» [5, с. 251]. Значимую роль в этом переходе, вероятно, кроме упоминавшегося уже П. Флоренского, сыграли работы М. Бахтина о полифоническом романе Достоевского.
Можно сказать, что как М. Бахтин открыл диалогический принцип в литературе, где Достоевский не был первым, так А. Васильев открыл игровой принцип в драматургии, в которой Платон не был последним. Согласно Бахтину, в монологической литературе, центрированной авторским голосом, идеи могут утверждаться или отрицаться [4, с. 125]: организующие текст или прямо манифестируемые автором идеи утверждаются, а остальные отрицаются; сама же по себе идея не может быть предметом художественного изображения, она всегда дана непосредственно (в организации текста или в авторской тезе). В полифоническом же романе, где идея дается автором как чужая вместе с голосом и личностью ее носителя, изображение идеи становится доступным художественному изображению.
Однако полифонический роман идей – это одно, а игровой театр идей – совсем другое. В литературе идея, вместе с ее носителем, самостоятельным голосом персонажа, является в раме романа, а в театре такой рамой оказывается спектакль, который состоит из множества компонентов, как идеальных, так и материальных, которых нет в литературе. Идеи-театр, как их называет Ален Бадью [3, с. 78], включают в себя пространство, текст, актеров, постановщика, зрителей, декорации, костюмы. Различные комбинации этих компонентов и образуют идеи-театр. Посмотрим, как скомпонованные таким образом идеи-те-атр соотносятся с собственно философским толкованием тех же идей; и каково обратное воздействие философских идей, с которыми играет театр, на практику и методологию самого театра.
Серию отрывков по диалогам Платона, показанных в ШДИ на Поварской в феврале 1991-го года, открывает знаменитый диалог Сократа и Главкона из 5-й книги «Государства» об общности жен и детей [11, с. 254–260] – тема чисто театральная: пол и вопросы, связанные с полом, едва ли не самая популярная тема в мировой драматургии, особенно комической. Сцена балансирует между соблазнением и властью, политика и эротика составляют ее нерв. Но добавлена тема искусства: слабоумный Сократ, которого кормят китайской лапшой, держит в руках палитру и кисти. Причем, движения его рук, совершенно безвольных, управляются извне при помощи специального коромысла, прикрепленного к спинке стула. В середине сцены палитра оказывается у него на голове, заменяя ему головной убор. Откуда взялась палитра с кистями, станет понятно, если вспомнить начало диалога об идеальном государстве. В 4-й книге Сократ сравнивает рассмотрение воображаемого государства с рисованием картины [11, с. 207]. На сцене эта случайная метафора воплощается буквально и становится ведущим сценографическим мотивом: палитра, надетая на голову, намекает, что живопись тут не совсем живопись, а, скорее, умозрение в красках. Можно вспомнить в этой связи неоплатонический апокриф об апостоле Иоанне, в котором духовная практика сравнивается с живописью, причем краски художник должен найти в себе самом. В сцене палитра на голове метонимически указывает на то, что краски находятся в уме художника. Все физические взаимодействия актера и актрисы в этой сцене сведены к минимуму, что прямо противоположно той идее материальной связи людей через пол и деторождение, о которой идет речь на вербальном уровне. Актриса-Главкон кормит актера-Сократа лапшой с помощью китайских палочек, удерживая дистанцию; он тянется к ней своими кисточками, она же управляет движениями его рук, двигая коромысло. Вербальный текст вступает в очевидную конфронтацию со сценическим текстом физических действий. И в остальном решение сцены – пуританский костюм актрисы, то ли монашки, то ли воспитательницы из пансиона благородных девиц, и абсолютно безвольный, неряшливо одетый мужчина в подтяжках, явно пациент психиатрической клиники – выстроено на контрасте с произносимым актерами текстом.
Если бы в этом тексте Платона речь шла об Эросе, то все это выглядело бы как насмешка над Платоновской концепцией одухотворенной любви. Но для Платона вопросы деторождения не связаны непосредственно с Эросом. Сегрегационная политика Сократа выстроена по образцу спартанской и воодушевлена идеей полезности; общность жен и детей, достойная комедии Аристофана: за этими литературными блестками скрывается совсем другая философская проблематика. Во-первых, политическое единство жителей полиса мыслится Платоном буквально, материально. Как прообразом власти царя является власть отца, так прообразом государства является семья. Метафора государство – семья в философском тексте Платона овеществляется, из аналогии превращается в тождество. По крайней мере, метафорическая связь меняется на метонимическую. Подобный буквализм свойствен театру, в особенности комедиям. Очевидно, что в самой этой идее общности жен и детей проступает на содержательном уровне комическая, чисто жанровая, сторона сократического диалога. Политический проект материального объединения граждан в одну семью посредством регулирования браков и деторождения подвергся критике Аристотеля за его нереа-листичность и бесполезность. Но с таким же успехом Аристотель мог бы критиковать Аристофана за проекты передачи власти в полисе женщинам или за проекты совместного с птицами построения атеистического государства. Это чисто театральная сторона сократического диалога – буквальное прочтение метафоры и вытекающая отсюда гиперболизация. Во-вторых, ключевое место в этом диалоге – отказ Сократа от разбора вопроса о пользе и осуществимости предлагаемого проекта и переход к рассмотрению результата, словно проект уже осуществлен. Это проективное забегание вперед составляет фон всего диалога о государстве. Работа диалектической мысли встраивается в работу фантазии. Парадоксальное сочетание материальной буквальности и заведомой фантазийности порождает то, что называется утопией, буквально то, у чего нет места. Ведь метафора или символ не требует для себя места, место нужно материальным вещам. Утопия получается при вычитании аналогии из буквальности. Вернее, сначала аналогия прочитывается буквально, а потом сама аналогия вычитается и остается некая невозмож- ная буквальность, утопия. Буквальность же, соединяющая в себе метафору и утопию, и есть театр. Работа театра, таким образом, состоит в постоянном развоплощении буквального и воплощении метафорического. Эта работа или процесс есть не что иное, как игра.
Тема игры разворачивается во втором отрывке, из диалога «Евтидем». Сценографическое решение этого отрывка продолжает тему живописи. Сцена с двумя сидящими за столом фигурами, с головами, покрытыми белой тканью, поверх которой надеты шляпы, воспроизводит мотивы сразу нескольких картин Р. Магритта. В середине сцены обе фигуры софистов, освободившись от покровов, примутся за трапезу, продолжая при этом беседу, и обнаружат, что у каждого по четыре руки. Известный автопортрет Магритта с четырьмя руками, к которому отсылает сцена, называется «Фокусник», основной мотив картины – застывшее действие, движение в статике. Котелок, фигурирующий во многих работах бельгийского художника, означает посредственность. Ткань, покрывающая голову – это и саван, и покрывало Изиды, и открытие внутреннего зрения. В сценическом прочтении «Евтидема» А. Васильевым двум фантастическим и посредственным одновременно фигурам софистов противостоят легко, по-дачному одетые Сократ и Клиний, попивающие вино. Поведение софистов подчеркнуто условно, демонстративно церемониально, а поведение их антагонистов, наоборот, естественно и непринужденно. Вся сцена развивается в русле оппозиции искусственного и естественного. Протагонисты искусственного воплощают театрально-игровое начало, тогда как их противники почти неотличимы от зрителей, они такие же, как все.
Если мы обратимся к содержанию текста Платона, то в разыгрываемых актерами отрывках этого диалога [10, с. 115–121, 139– 153] мы имеем дело, как минимум, с двумя проблемами: 1) различение акта и потенции; 2) различение акта и движения. Сократ сводит обе проблемы к различению имен, тонкостям омонимии, которым обучали в школе софиста
Продика. Так, слово «учиться» может означать и получение новых знания, и углубление уже имеющихся. На этих тонкостях софисты и ловят неопытного юношу Клиния. Но за софистическими тонкостями стоят серьезные онтологические проблемы, которые Аристотель разбирает в 9-й книге «Метафизики», посвященной различию между действием ( energeia ) и способностью ( dynamis ) [2, с. 162–164]. Любое движение предполагает или перемещение из одного места в другое, или переход из одного состояния в другое. Пункт назначения или конечное состояние является при этом целью. Но есть и такие акты, в которых действие само является целью и, соответственно, в них нет различия между процессом и результатом. Видеть и увидеть, мыслить и помыслить, достичь счастья и быть счастливым – это одно и то же. Наоборот, учиться еще не значит научиться, как и идти – еще не значит прийти. Акты, которые ни к чему не стремятся, так как не имеют цели вне себя самих, суть не движения, а при-хождение к сущности, актуализация собственной природы вещи. Акт есть сущностное действие, или сущее в действительности ( energeia ), тогда как движение, которое всегда не завершено, поскольку имеет цель вне себя, есть сущее в возможности. Движение заканчивается с переходом в новое состояние (учиться – научиться, идти – прийти). Действие же, как акт, не ведет к новому состоянию, но, скорее, длит одно и то же. Причем, между этим состоянием и его противоположностью нет непрерывного перехода: пока я не увидел, я не вижу, но, увидев, я уже вижу.
Трудность состоит в том, что многие действия и соответствующие им глаголы трудно квалифицировать как дискретный акт или как непрерывное движение. Один из таких глаголов – знать. Для Сократа знать – это знать что-то конкретное (то, что он знает) и не знать всего остального, а значит, пребывать в акте знания и одновременно быть способным к знанию. Для софистов знать – значит просто быть знающим. Отсюда их странный и обескураживающий тезис: знать значит знать все, то есть обладать мудростью актуально. Софисты все- ми правдами и неправдами отстаивают этот тезис в споре с Сократом, так что тот, в конце концов, вынужден, пусть и со свойственной ему иронией, но отступить: «эти мужи непобедимы».
Софистический способ вести спор и обучать Сократ называет игрой. Очевидно, сама по себе игра относится к дискретным актам. Утверждение софистов, что знать что-то одно можно только в том случае, если знаешь все – это пример чисто игрового суждения. Мы уже видели, что полное знание – это условие, с которым актер выходит на сцену. Играть – значит знать все. Для того, кто знает все, обладает актуально такой мудростью, все превращается в игру. Но Сократ уличает софистов в том, что они демонстрируют обладание не мудростью, а только ее видимостью. Их вопросы и уловки он иронически называет «игрой», «танцами корибантов при посвящении в таинство». «Такова игра познания, – говорит Сократ. – А игрой я именую это потому, что если кто узнает множество подобных вещей (софистических приемов – прим. автора статьи ) или даже все их, он ничуть не лучше будет знать самый предмет – какова его суть, – а сумеет лишь забавляться с людьми, подставлять им подножку, используя различия имен…» [10, с. 120–121]. Знание, похожее на игру, это еще не настоящее знание, а только его видимость, – говорит Сократ. Игра – это только прелюдия к таинству познания.
Однако было бы неправильно абсолютизировать эту критику Сократа, в других платоновских диалогах он часто говорит о занятиях философией как об игре. Более того, прекрасную жизнь в идеальном полисе он уподобляет хороводам и танцам. Что же не устраивает Сократа в речах софистов? Ведь они как раз и занимаются этими танцами и учат им других. Софистическое искусство спора ограничено жесткими правилами, которые делают его применимым только внутри ситуации обучения, но за ее пределами, где эти правила не действуют, в обычной политической и гражданской жизни, все эти умения оказываются бесполезными. Софист, как и актер, – это игрок на поле идей и на поле языка. Само это поле задается правилами искусства: в одном случае театрального, а другом – эристического. Как актер вне сцены утрачивает ту полноту знания, какой его наделяет сцена, так и софистика должна быть бесполезна в суде или в народном собрании. Однако на практике, в реальной жизни античного полиса, софисты и риторы имели чрезвычайно большой авторитет. Так, Аристотель в «Поэтике» отмечает, что «древние (поэты) представляли лиц, говорящих политично, а нынешние выводят лиц, говорящих риторично» [1, с. 15]. То есть прежние герои трагедий говорили по существу дела, а нынешние говорят по правилам риторического и эристического искусства. Именно этому несовершенному обществу, в котором сами вещи подменяются их видимостью, и противопоставляет Сократ свой идеальный полис. Жизнь слишком театральна – как бы говорит он, – игра не должна занимать все пространство жизни, как это происходит у нас. Но где пределы игры, у какой границы игра должна прекратиться? В вышеприведенном отрывке Платон называет это место порогом таинства, за которым вещи познаются сами по себе, а не по их видимости.
Античный театр, как известно, генетически был связан с мистериями. Эсхил даже представал перед афинским судом по обвинению в разглашении на сцене Элевсинских таинств. Об этом процессе упоминает Аристотель в «Этике», повторяя в оправдание трагика тот аргумент, который спас его на суде: он не знал, что разглашает таинства. Итак, театр – область полного знания, за одним лишь исключением: ему неведомо, что он разглашает таинство. Можно сказать, что западный театр еще при рождении отмечен этим обвинением в разглашении таинств, как родимым пятном. И на протяжении своей многовековой истории он постоянно воспроизводит эту «первичную сцену» разглашения. В этом смысле театр выступает в роли парресиаста, с той лишь оговоркой, что театр – особый случай: ему позволено говорить истину, но лишь постольку, поскольку заранее уже решено, что все, что он говорит – не истина. Не только маска защищала актера, но и само пространство орхестры с расположенным на ней алтарем Диониса служило ему защитой от полиса, которому могла не нравиться та истина, которая публично разглашалась в театре. Комедиографы во времена Аристофана так усердствовали в парабасах, тех частях комедий, где актеры, сняв маски, прямо обращались к зрителям, что суд в Афинах принял закон, запрещавший в театрах прямые нападки со сцены.
Однако вернемся к Сократу, который и сам выступает в роли парресиаста, назойливого овода, жалящего добропорядочных афинян. В этом он солидарен с трагиками и комедиографами, но если у последних был покровитель, бог Дионис, то у Сократа такого защитника не оказалось. Личный даймон, заставлявший его философствовать и высказывать неугодные истины, не смог его спасти от происков сикофантов, возбудивших на него гнев афинян. В «Евтидеме», несмотря на внешнюю несерьезность, комичность этого диалога, спор Сократа с софистами принципиальный. Софисты не только сами не претендуют на роль парресиастов, но и учат других тому, что истина невыразима на языке смертных, им доступна лишь игра мнениями – такова обратная сторона знаменитого тезиса Протагора «человек – мера всех вещей». В этом смысле они ничем не рискуют, их игра, как верно заметил Гаман, исключает случай, то самое tyche , которое является скрытой пружиной хорошей трагической фабулы. Сократ отвергает софистическую игру как лишь видимость игры. Перефразируя С. Малларме, можно сказать, что настоящая игра никогда не исключает случай, а значит, риск для играющего высказать истину.
Слово tyche иногда переводят и как «событие». М. Бахтин рассматривает раскрытие идеи в «сократическом диалоге» именно как событие, рождение знания, которое происходит при встрече незамкнутых, открытых сознаний, носителей этих идей. Может ли театр быть местом такой встречи, местом явления идеи как события, местом говорения истины, местом действия персоны и, стало быть, настоящей игры – вот вопросы, которые А. Васильев ставит перед театром, беря диалоги Платона в качестве пропедевтики игрового театра.
Справедливости ради надо заметить, что сам термин «игровой театр» в одно время с А. Васильевым активно использовал другой крупный режиссер и гениальный педагог, М. Буткевич, коллега А. Васильева и автор книги «К игровому театру» [6]. Едва ли имеет смысл выяснять, кто из них первым стал использовать это словосочетание. Буткевич был страстным защитником молодежного, студийного театра, его захватывала игра как стихия, тогда как Васильев делает акцент на профессионализме, сочетает игру с аналитической точностью, интенсивной мыслительной работой. К примеру, Ю. Альшиц так характеризовал разницу в импровизационном методе двух режиссеров: «Для Буткевича предмет импровизации тесно связан с исследованием человеческого характера, человеческих отношений, ситуаций. Анатолию интересна импровизация вокруг темы, смысла, идеи. Это предполагает совсем иные условия для актера, ставит его в жесткие рамки и определяет иной уровень импровизации. У Буткевича импровизация ценилась сама по себе, как свободно излагаемый процесс. У Васильева импровизация – ограничена законами, правилами, по которым актер движется к определенному финалу» [5, с. 266]. Но при всех различиях, обоих режиссеров-педагогов объединяло мощное стремление за пределы того канона, который сложился в театральном образовании в процессе долгого внедрения в театральных вузах страны системы Станиславского, как последней истины о театре. Что, конечно, ни в коей мере не дискредитирует саму «систему», а, скорее, свидетельствует о тенденции к централизации и унификации отечественной театральной школы, которую последовательно проводила советская власть. Аналогом утверждению психологического театра, развитого системой Станиславского, как единственно верной театральной методологии было утверждение соцреализма в литературе и кино. Если пред- ставить себе, в качестве мыслительного эксперимента, что при социализме в Советском Союзе идеология не была бы монополизирована партией, если бы существовало множество идеологий, то роман Достоевского и театр Васильева стали бы идеальными выразителями советского сознания, ориентированного, прежде всего, на будущее и на идею. Театр борьбы, по сути, есть следствие монополизации идеи, когда есть правильная идея и неправильная, и есть конфликт между ними. В театре игры в каком-то смысле все идеи неправильные, то есть они все подвергаются игровому отрицанию. И в этом неизбежном отрицании идеи во имя игры, движения, незамкнутости, сказывается метафизическая природа театра, его неустранимая апоретичность, которая всегда несет в себе риск и соблазн софистики.
Итак, подведем итоги. В 1990-е годы Анатолий Васильев осознанно перешел в практике театра Школы драматического искусства от метода психологического (ситуативного) театра к метафизическому театру и игровым структурам. На этом методологическом повороте режиссера от театра персонажа к театру персоны, а затем – к театру идей он включает в свою практику диалоги Платона как пропедевтику актерского искусства.
На примере сценических опытов Школы драматического искусства по фрагментам диалогов Платона «Государство» и «Евтидем» можно увидеть, как могут трансформироваться философские идеи при переводе их на язык театра. Декорации и костюмы в рассмотренных опытах ШДИ по текстам Платона имеют несколько функций: это и механизмы, чаще всего абсурдные, и визуальные цитаты из картин Р. Магритта. Вместе с игрой актеров они создают материальную среду, с которой соединяются тексты диалогов. Различные компоненты идеи-театра – текст и игра актеров, текст и декорации и костюмы – взаимодействуют между собой не прямо. Декорации и игра не иллюстрируют текст, а зачастую вступают с ним в конфронтацию. Театр склонен к буквальному прочитыванию сложных концептов и метафор, незначимые детали в тексте на сцене оказываются центральными, так что смысл ситуации может меняться на противоположный. Конфронтация, буквальность, реверсивность – способы, которыми театр мыслит философский текст. Скомпонованные таким образом идеи-театр никогда не иллюстрируют «философский смысл» тех же текстов, но как бы находят себя уже внутри этого смысла и вступают с ним в игру. Сам А. Васильев в работе с диалогами Платона не подходил к ним со стороны философской или филологической культуры. Как он сам сказал в одном из публичных выступлений, на презентации книги Н. Исаевой «Годы странствий Васильева Анатолия» с участием А. Раскина, И. Яцко и Г. Заславского, которая состоялась на книжной ярмарке non/fiction – 2023: «Я знал Платона со стороны Агоры, как тот, кто говорит, а не как тот, кто читает, это разные вещи». Но если мы вспомним, что греческое слово kategoria означает именно говорение с Агоры, то позицию Васильева следует признать аутентичной греческому философскому тексту.
И последний вопрос: каково обратное воздействие философских идей, с которыми играет театр, на практику и методологию самого театра? Очевидно, что не только упоминавшиеся уже идеи П. Флоренского об обратной перспективе и М. Бахтина о полифоническом романе служили стимулами для режиссерского поиска, но и сами тексты Платона, с которыми шла работа на сцене. В качестве гипотезы можно предположить, что работая с диалогами Платона А. Васильев, прочитывая текст поперек его очевидного смысла, переворачивая его, играя с ним, извлек основания для онтологии театра, которая строится не на языке имен и константных сущностей, отсылающих к интуиции пространства, а на языке глаголов и действий, отсылающих ко времени.
Однако театр творится не только и не столько режиссерской методологией, но и актерами, которые в своем творчестве – каждый по-своему, уникальным, свойственным только ему способом – преломляют режиссерский метод и стоящие за ним идеи. В «Евтидеме» игра понимается как преддверие к посвящению в таинство и разворачивается на границе между светским и сакральным пространствами. Два этих полюса – игровое и мистериальное – создают особое напряжение, характерное для театрального присутствия. Игровое начало было сильно выражено в работе А. Анурова, В. Лаврова, И. Яцко. «В игровом плане, – говорит Игорь Яцко, – я могу философски посмотреть на самого себя, я освобождаюсь от обстоятельств […]. Закон игры – это закон авантюры. И тут много можно привести примеров. Любой фокус, то есть все, что связано с обманом. Авантюра – это средство для того, чтобы двигаться. То есть мы не можем к цели прийти прямо. Мы должны обманывать друг друга, зрителей. То есть играть. Делать обманные, ложные ходы для того, чтобы выйти» [5, с. 248]. Игра в театре – это духовная авантюра, в которой актер касается пространства тайны, мистерии. Это мистериальное ощущение игры хорошо выразила Н. Коляканова в рассказе о том, как она репетировала «Школу жен» Мольера: «В игровой структуре очень важно организовать все вокруг события, чтобы потом в него погрузиться, насладиться им, прожить его. Прожить, как могу прожить я, Наташа Коляканова, как персона. В чем драйв такой игры? В том, что ты организовал эту игру и потом в нее вошел, и сладки слезы, которые ты льешь, и ты испытываешь наслаждение. Главное здесь то, что я услышала движение энергии, которой могу управлять» [5, с. 316].
Важнейшим элементом идеи-театра, кроме актеров, текста, режиссера, является зритель, без которого картина театрального эксперимента была бы неполной. Работа по Платону в ШДИ на Поварской в начале 1990-х носила лабораторный, полузакрытый характер. Немногие непосредственные свидетели этих опытов отмечают особый стиль актерского существования, какого они не видели в других театрах. Так, актер из Мастерской Клима М. Серажетдинов, который по дружбе с одним из ведущих актеров платоновского проекта, А. Ануровым, был зрителем на показах платоновских диалогов в ШДИ, отмечает такие особенности этого стиля: игровое отношение актеров к себе незнающим, как бы небрежность, но в рамках формального подхода – игра в тексте, а не в актерском переживании. Поскольку некоторые актеры, как А. Ануров, сами были режиссерами, их игра напоминала режиссерский показ, что придавало ей уместную пропедевтическую окраску. Зрителя удивляла свобода актеров в обращении с каноническим, не театральным текстом Платона, отсутствие боязни сложного, непонятного текста, доверие к тексту, которому нужно только точно следовать, входя в него как в поток.
Вполне вероятно, что процессуальная онтология действия, которую действительно можно найти у Платона, и текста как потока, с приоритетом процесса над результатом, персоны действующего над имитирующим действие персонажем, оказала существенное влияние на формирование концептуальной базы для последующего методологического перехода Васильева к игровому театру не только как к интуитивно ощущаемой природе театра, но и как осознанной структуре, разработке которой режиссер посвятил долгие годы и которой по сей день занимается со своими студентами и актерами.