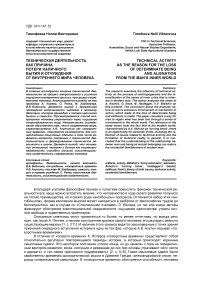Техническая деятельность как причина потери наличного бытия и отчуждения от внутреннего мира человека
Автор: Тимофеева Нэлли Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется влияние технической деятельности на процесс антропогенеза и усиление ощущения внутреннего кризиса, присущего современному человеку. Анализируются взгляды на эту проблему А. Кожева, О. Ранка, М. Хайдеггера, В.В. Бибихина. Делается вывод о драматизме чрезмерной включенности человека в механику действия, которая приводит к потере наличного бытия и самости. Рассматривается способ возвращения человеку утраченного через ощущение сопринадлежности миру. Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном мире, характеризуемом А.В. Ахутиным как «поворотные времена», появляется возможность для осуществления смысловых сдвигов, в том числе рефлексии вопросов, связанных с технической деятельностью и формированием технической реальности в целом. Делается вывод, что понимание отношений человека и бытия как взаимопринадлежности способно снизить экзистенциальную озадаченность современного человека.
Артефакты, деятельность, «живой автомат» В.В. Бибихина, отчуждение, «поворотные времена» А.В. Ахутина, «постав» М. Хайдеггера, самость, теория о травме рождения О. Ранка, техническая деятельность, экзистенциальная озадаченность
Короткий адрес: https://sciup.org/149134936
IDR: 149134936 | УДК: 141+141.32 | DOI: 10.24158/fik.2021.4.6
Текст научной статьи Техническая деятельность как причина потери наличного бытия и отчуждения от внутреннего мира человека
Благодаря усилиям философии техники и попыткам осмыслить феномен технической реальности все чаще можно встретить мнение, что человечество в ходе своего развития получило не только преимущества, но и своего рода «антибонусы» прогресса. Отличается набор этих «антибонусов», форма изложения мыслей может находиться в разбросе от философских трудов до беллетристики, как в случае со «Стеклянными пчелами» Э. Юнгера, но так или иначе авторы фиксируют обострение экзистенциальной озадаченности, ощущения одиночества, утраты личной свободы и нравственных ориентиров.
Описанные симптомы могут проявляться то более, то менее отчетливо, но всегда речь идет, как писал А. Печчеи, о некоем «внутреннем кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром» [1, с. 211]. И наличие этого кризиса видится закономерным с точки зрения признания очередного вступления истории в одну из тех фаз, которые А.В. Ахутин называл «поворотными временами».
В отличие от «осевого времени» К. Ясперса «поворотные времена» представляют собой относительно регулярно повторяющиеся периоды истории, в которые происходят коренные смысловые сдвиги. Это некоторое состояние «после конца, но до начала» с пока не определенным вектором развития, когда «несущие и держащие до сих пор основы утрачивают силу нести и держать» и «их самих приходится поддерживать» [2, с. 5–6]. Такие смысловые сдвиги были свойственны временам досократической мысли в Древней Греции, александрийской эпохе, периоду коперниканской революции. В «поворотные времена» обостряется способность человека проводить ревизию привычных понятий и выявлять новые смыслы. Сможем ли мы усмотреть эти новые смыслы и не упустить их? Какими мы выйдем из текущего состояния неопределенности и войдем в состояние начинания? Сможем ли лучше понять свою природу и окружающий природный мир? Ответы на эти вопросы во многом зависят от того, насколько мы сможем воспользоваться возможностями, которые предоставляют нам «поворотные времена».
Одним из ключевых для понимания природы человека понятий, ревизию которого давно пора провести, является понятие деятельности в самом широком смысле, включающее в себя и техническую деятельность, и другие виды деятельности как формы отношения человека к миру. Общим местом является представление о том, что деятельность, в том числе техническая, несет позитивную коннотацию и значима именно своей способностью вывести человека из зависимости от природного мира, поставить над ним. В такой парадигме всячески подчеркиваются созидательные, творческие начала деятельности и редко обращается внимание на то, что деятельность способна предстать как драматический процесс, когда цели не соответствуют средствам, выбираются волюнтаристски или их достижение приводит к заранее не предусмотренным результатам.
На этом фоне интерес представляют взгляды А. Кожева на роль деятельности в антропогенезе, существенным образом отличающиеся от трактовки, сложившейся в рамках классической философии. А. Кожевым была сделана достаточно жесткая фиксация, согласно которой становление homo sapiens происходит именно в деятельности, когда человек как субъект деятельности начинает желать и добиваться того, что изначально отсутствовало в мире природы [3, с. 310]. В терминологии А. Кожева стремление «желать желание», т. е. стремление обрести нечто, не имеющее отношения к биологическому выживанию, является исключительно антропогенным.
При этом человек движим отнюдь не творческим, созидательным потенциалом. Истинной причиной движения истории («желания желания») является недовольство человека окружающим его миром, это сущностное качество человека - быть вечно недовольным, протестовать, отрицать, желать большего. Иначе говоря, если животное всегда говорит «да» наличному бытию, то человек - это тот, кто может сказать и, как правило, говорит ему «нет». В философии А. Кожева человек в своем стремлении отрицать природу как «налично-данное» предстает не как производящее начало, но именно как субъект негативности, субъект отрицания, теряющий связи с наличным бытием по мере своего развития [4, с. 173]. Результатом такого положения дел становится то, что человек образует преграду между природой и собой, формирует и населяет псевдомир вместо действительного, природного мира.
Человека как субъекта, отрицающего наличное бытие, рассматривал в рамках теории о травме рождения австрийский психоаналитик О. Ранк. По его мнению, реальность всегда (и на заре антропосоциогенеза, и сейчас) враждебна человеку, и для защиты от нее человеком запускается «постоянно действующий процесс самообмана, притворства и ошибок» [5, с. 274]. Наличное бытие вызывает страх и боль, именно фундаментальная ненадежность и психологическая невыносимость наличного бытия и привели к запуску интроективно-проективных механизмов защиты [6, с. 77]. При этом, с точки зрения О. Ранка, деятельность (творческая активность) позволяет человеку утвердить свои собственные внутренние идеалы, созданные самостью, и тем самым хотя бы в какой-то мере перестать защищаться от внешнего мира.
Принципиально иную точку зрения на природу деятельности, независимо от того, имеется в виду творческая или техническая активность человека, разрабатывал В.В. Бибихин. По мысли В.В. Бибихина, человек позволяет сиюминутной деятельности захватить себя, чтобы устроить свою жизнь «здесь и сейчас». Одновременно с этим человек оказывается способным понять, что в сущности «дело человека не устройство на земле» [7, с. 53], что человека может устроить и настроить на тон согласия с миром только наличное бытие целиком, а не какой-то отдельно взятый фрагмент реальности. К сожалению, именно наличное бытие как таковое и ускользает от внимания в процессе деятельности. Складывается ситуация кажущейся энергичности, заполненности и реальной пустоты, способная породить панику, природа которой самому человеку не всегда понятна.
Несогласие с реальным, природным миром может выражаться не только в преобразовании наличной действительности, но также и в феномене речи, языка. Относительно последнего А. Ко-жев отмечал, что язык стал тем обстоятельством, благодаря которому еще более отчетливо наметился разрыв между человеком и наличным бытием и перемещение человека внутрь созданных им же самим границ, в данном случае – границ понимания. Произошло так потому, что именно благодаря речи, особенно письменной, у человека появилась возможность «удерживать заблуждение в лоне самой реальности» [8, с. 31]. В комментариях В. Руднева к «Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна находим схожие размышления: «Витгенштейн не говорит, что речь искажает мысли, но утверждает, что она их только маскирует, драпирует, переодевает» [9, с. 87]. Так, по мере развития речи и мышления человек все больше отдалялся от наличного бытия. Возможно, единственным временным промежутком, когда человек жил без отрыва от природного мира, не ограждаясь от него иллюзиями, ошибками и маскировкой, можно назвать ранние этапы антропогенеза, в которых «нет никаких пропозиций и речь вообще не отделена от реальности» [10, с. 67].
Таким образом, можно сказать, что становление автономного человека как субъекта деятельности, всей системы артефактов и даже языка, по сути, происходило как формирование сложной системы защиты человека от наличного бытия. Не высокий полет разума, а специфика кинестетического восприятия окружающей действительности (прежде всего через боль) приводила к выстраиванию вокруг человека стен, не только каменных, формирующих новую техническую реальность, но также и мыслительных, и речевых. Постепенно, по мере выстраивания стен и нарушения встраивания в природный мир человек терял свое место в нем, и даже, несмотря на то что наличное бытие было способно предложить людям обиталище более долговечное, вместо действительного (природного) мира был создан техничный псевдомир. Ситуация не изменилась даже к концу XX в., когда человек, согласно С.С. Аверинцеву, продолжал находиться в ситуации «утраченного места» [11].
Драматизм заключается в том, что параллельно происходило отчуждение человека и от своего собственного внутреннего мира. Об этом неоднократно писал М. Хайдеггер, отмечавший, в частности, что человек конституирован негативностью, а технический мир, порождаемый человеком, начинает выступать серьезным препятствием к разворачиванию его (человека) самости. В результате распредмечивается не только материал (наличное бытие), но и сам «человек среди распредметившегося материала становится просто поставителем этой наличности», сам себе и другим являясь просто «как нечто состоящее в наличности» [12, с. 233]. Человек перестает быть «пастухом бытия», а все больше встраивается в мегамашину с самим собой в роли сырья. Таким образом в техничном псевдомире в конце концов и сам человек становится «поставом» (в терминологии М. Хайдеггера) или «живым автоматом» (по В.В. Бибихину).
К сожалению, в поисках и самого себя, и своего места в мире человек предпочел наращивать не собственные способности, но технические мощности, полагая тождественным «обеспечивать действительность самому себе» и «обеспечивать себя». Однако, по сути, тем самым он становился участником некоего порочного круга, когда и сам человек – потерянный, и искомое наличное бытие оставались неизвестными величинами. Попытки приблизить неизвестного себя к неизвестному миру не увенчались успехом. Напротив, разрыв между двумя неизвестными величинами увеличился настолько, что человек в конце концов оказался неспособным уловить самого себя как предмет мысли в силу его малости, и чтобы хоть как-то справляться с экзистенциальной озадаченностью был рад отождествить себя «хоть с машиной, чтобы хоть что-то иметь за душой» [13, с. 373].
Так мы по своей воле оказываемся в полной мере вовлеченными в механику действия. Человеку деятельному уже некогда продемонстрировать возможности своего разума: являясь в биологическом смысле высшим млекопитающим, он не только предпочитает прожить жизнь как моллюск в раковине из иллюзий и артефактов, но и умирает как «живой автомат». И если сравнение с моллюском достаточно очевидно, поскольку машины и механизмы «настолько же неотъемлемо принадлежат человеку, как скорлупа улитке или паутина пауку» [14, с. 197], то относительно «живого автомата» требуются пояснения.
Недавние исследования специфического материально-архитектурного знакового пространства, опубликованные в журнале «Археология русской смерти», показали, что личностные характеристики отсутствуют в знаковом пространстве надгробий за исключением тех фактов, когда профессиональная деятельность и хобби отсылают к стереотипному набору характеристик. Иначе говоря, после смерти человек продолжает восприниматься через свою – уже бывшую – деятельность, и вопрос «Каким был?» подменяется на в вопрос «Кем был?» (прежде всего по профессиональной принадлежности). Ответом становятся символические указания на практики, свойственные человеку при жизни, т. е. посмертная репрезентация опять же отсылает «к прижизненной способности действовать, вдыхать жизнь в неживые объекты» [15, с. 181].
Осмысляя описываемую ситуацию в целом, следует задаться вопросом: так действительно ли, как писал А. Кожев, «судьба человека – продолжать существовать, постоянно ошибаясь в существующем» [16, с. 573], в том числе в себе самом, когда даже акт собственной смерти не дает возможности противостоять технической реальности, мешающей возвращению человеку его утраченного внутреннего мира? Чтобы задать направление мысли для ответа на этот вопрос, следует прежде всего сделать акцент на понимании отношения человека и мира как взаимопри-надлежности, что раскрыто М. Хайдеггером: «Бытие требует человека, чтобы осуществиться самим собою среди сущего и сохраняться в качестве бытия» [17, s. 37–47]. М. Хайдеггер называл сопринадлежность «властительной» и сетовал на то, что именно ее человек упрямо не замечает, продолжая представлять все «в виде устройств, порядков и опосредований, будь то диалектически или же без всякой диалектики» [18, c. 19].
В этом понимании усматривается надежда. Согласно М. Хайдеггеру, если человек сумеет обрести ощущение сопринадлежности миру и предметом его практической заинтересованности наконец станет не устройство себя в мире, а прежде всего бытие, без которого человек не мыслится и с которым всегда соотносится по каким-то законам, то, возможно, он сумеет вступить в ту систему отношений, «которая впервые должна высвободить взаимное человека и бытия и тем самым – констелляцию обоих» [19, с. 19]. Возможно, именно в этом и будет суть нового состояния начинания, в котором человек окажется после выхода из «поворотных времен», смысл некоего предстоящего человеку «общего дела», то, что Н.Ф. Федоров, возможно, охарактеризовал бы словами нашего современника как дело узнавания «человеком и человечеством самих себя как агентов в общей ориентации живого бытия на успех» [20, c. 9].
Ссылки:
-
1. Печчеи А. Человеческие качества / пер. с англ. О.В. Захаровой. М., 1985. 312 с.
-
2. Ахутин А.В. Поворотные времена. СПб., 2005. 743 с.
-
3. Кожев А. Введение в чтение Гегеля / пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб., 2003. 792 с.
-
4. Фейгельман А.М. Человек как субъект негативности в концепции онтологического дуализма А. Кожева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2012. № 2. С. 170–176.
-
5. Ранк О. Травма рождения. М., 2004. 398 с.
-
6. Руднев В.П. Реальность как ошибка. М., 2011. 318 с.
-
7. Бибихин В.В. Энергия. М., 2010. 488 с.
-
8. Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля / пер. с фр. И. Фомина. М., 1998. 208 с.
-
9. Витгенштейн Л. Избранные работы / пер. с нем. и англ. В. Руднева. М., 2005. 440 с.
-
10. Руднев В.П. Указ. соч. С. 67.
-
11. Дардыкина Н. Сын света. Аверинцев оживил Византию [Электронный ресурс] // Международный клуб православных литераторов «Омилия». URL: https://omiliya.org/article/syn-sveta-averintsev-ozhivil-vizantiyu-natalya-dardykina.html
(дата обращения: 31.03.2021).
-
12. Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления / пер. с нем. В.В. Бибихина. М., 1993. 447 с.
-
13. Бибихин В.В. Отдельные записи и отрывки из дневников // Узнай себя. СПб., 2015. С. 168–445.
-
14. Арендт Х. Vita activia, или О деятельной жизни / пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина; под ред. Д.М. Носова. СПб., 2000. 437 с.
-
15. Шерстобитов К. «Дополнительная информация» на памятниках: анализ оформления материально-архитектурного знако
вого пространства на примере городских кладбищ Кимр и Дубны // Археология русской смерти. 2015. № 1. С. 168–193.
-
16. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 573.
-
17. Heidegger M. Die Kehre // Die Technik und die Kehre. Pfullingen, 1962. S. 37–47.
-
18. Хайдеггер М. Тождество и различие / пер. с нем. А. Денежкина. М., 1997. С. 19.
-
19. Там же.
-
20. Бибихин В.В. Лес. СПб., 2011. С. 9.
Редактор, переводчик: Невзорова Наталья Викторовна
Список литературы Техническая деятельность как причина потери наличного бытия и отчуждения от внутреннего мира человека
- Печчеи А. Человеческие качества / пер. с англ. О.В. Захаровой. М., 1985. 312 с.
- Ахутин А.В. Поворотные времена. СПб., 2005. 743 с.
- Кожев А. Введение в чтение Гегеля / пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб., 2003. 792 с.
- Фейгельман А.М. Человек как субъект негативности в концепции онтологического дуализма А. Кожева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2012. № 2. С. 170-176.
- Ранк О. Травма рождения. М., 2004. 398 с.
- Руднев В.П. Реальность как ошибка. М., 2011. 318 с.
- Бибихин В.В. Энергия. М., 2010. 488 с.
- Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля / пер. с фр. И. Фомина. М., 1998. 208 с.
- Витгенштейн Л. Избранные работы / пер. с нем. и англ. В. Руднева. М., 2005. 440 с.
- Руднев В.П. Указ. соч. С. 67.
- Дардыкина Н. Сын света. Аверинцев оживил Византию [Электронный ресурс] // Международный клуб православных литераторов «Омилия». URL: https://omiliya.org/article/syn-sveta-averintsev-ozhivil-vizantiyu-natalya-dardykina.html (дата обращения: 31.03.2021).
- Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления / пер. с нем. В.В. Бибихина. М., 1993. 447 с.
- Бибихин В.В. Отдельные записи и отрывки из дневников // Узнай себя. СПб., 2015. С. 168-445.
- Арендт Х Vita activia, или О деятельной жизни / пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина; под ред. Д.М. Носова. СПб., 2000. 437 с.
- Шерстобитов К. «Дополнительная информация» на памятниках: анализ оформления материально-архитектурного знакового пространства на примере городских кладбищ Кимр и Дубны // Археология русской смерти. 2015. № 1. С. 168-193.
- Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 573.
- Heidegger M. Die Kehre // Die Technik und die Kehre. Pfullingen, 1962. S. 37-47.
- Хайдеггер М. Тождество и различие / пер. с нем. А. Денежкина. М., 1997. С. 19.
- Там же.
- Бибихин В.В. Лес. СПб., 2011. С. 9.