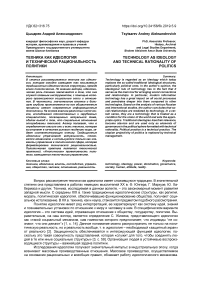Техника как идеология и техническая рациональность политики
Автор: Цыцарев Андрей Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается техника как идеология, которая сегодня замещает так называемые традиционные идеологические структуры, прежде всего политические. По мнению автора, идеологическая роль техники заключается в том, что она служит главным инструментом, с помощью которого организуются социальные связи и отношения. В частности, значительное влияние и большую глубину проникновения во все общественные процессы имеют современные информационные технологии. На основе анализа различных источников, исследований отечественных и зарубежных специалистов, посвященных актуальной теме, сделан вывод о том, что социальные отношения опосредованы техникой. Автор полагает, что в определенном смысле они и есть техника, которая выступает в качестве условия «видения» мира, задает соответствующую оптику. Традиционные идеологии утрачивают актуальность, становятся атавизмом и используются только как элементы управления в политической сфере, которая форматирована технической рациональностью. Политическая практика является технической практикой. «Утопическая» проективность политики замещается техническим управлением.
Техника, идеология, власть, господство, управление, общество, человек, отношение, реальность
Короткий адрес: https://sciup.org/149133981
IDR: 149133981 | УДК: 62+316.75 | DOI: 10.24158/fik.2019.5.9
Текст научной статьи Техника как идеология и техническая рациональность политики
И ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОЛИТИКИ
Вопрос рассмотрения техники как идеологии имеет сложившуюся традицию. В значительной степени она представлена в работах немецких мыслителей XX в. Ф. Юнгера, Г. Маркузе, Ю. Хабермаса и других. Техника, исследуемая в данном аспекте, – это закономерный момент развития западной мысли. С середины XIX в. такие традиционные идеологические структуры, как религия, мораль, политическая идеология, обеспечивавшие функционирование общества, получают социальное истолкование. В XX в. техника, как и наука, становится предметом подобного рассмотрения.
Понятие идеологии имеет ряд интерпретаций, ее характеризуют как систему идей, знаний и познавательных установок по отношению к миру и человеку в нем. В специфическом варианте идеология – это система идей, отражающих отношение к обществу, государству, политике. Выразительным, на наш взгляд, является определение С. Жижека, представляющего идеологию как «такой социальный механизм, сам гомеостаз которого предполагает, что индивиды “не сознают, что они делают”» [1, с. 14]. Данное понимание можно распространить не только на политическую реальность, но и реальность вообще, т. е. идеология – необходимый «защитный экран» от реального [2]. Защищенность обеспечивается и интегрирующей функцией идеологии, поскольку это такая совокупность представлений, которая «служит для того, чтобы соединять людей в те или иные социальные структуры» [3, с. 59]. Организация людей в устойчивые воспроизводящиеся структуры – важнейшая задача политики.
Исследования идеологии получают значительный импульс в индустриальную эпоху, когда возникают массовые производственные отношения. Массовое производство, осуществляемое на основании рациональных и всеобщих правил, обнажает работу идеологического механизма.
Поскольку цепочка производственных отношений не может быть доступна одному взгляду и воспринята во всей своей полноте одним человеком, то человек массового производства не знает, что именно он делает в целом. Ему доступно только ограниченное социальное пространство и соответствующее понимание. При этом сама «жесткая» структура производства способствует тому, что человек всякий раз возвращается к выполнению своих функций.
В итоге массовое производство эффективно «удерживает» общество. Рабочий ритм, выполнение четких, последовательных операций в одно и то же время создают устойчивость социальных отношений, так как человек, включенный в этот порядок производственной необходимости, не выпадает из коллективных взаимодействий, форматированных массовым индустриальным производством, а должен всякий раз возвращаться к обязанностям и включаться в эти отношения. Социальное поведение определяется комплексом представлений о том, где человек находится, каково его предназначение. Подобную ситуацию нельзя охарактеризовать однозначно (правильная она или нет), поскольку «идеология лежит вне вопроса об истине и лжи» [4, с. 60]. Такое представление – отчасти картина реальности, открывающаяся из точки, в которой субъект ее фиксирует. Вместе с тем полнота реальных связей, порождающих доступное человеческому восприятию представление, не может быть охвачена единственным взглядом и единой точкой зрения, такой оптики не существует. Следовательно, идеология – неотъемлемая составляющая работы мышления.
В традиционном обществе человек в организации своей практики ориентировался на различные виды повторяющихся явлений, в первую очередь природные, космические циклы. Структура времени (религиозные праздники, сезонные даты) и пространства (священные места) организовывала социальные отношения. Вернее, объективированные представления людей о космосе, природе, религии оказывали организующее влияние на отношения и деятельность. В современном обществе, когда мир «расколдован», важнейшим организующим влиянием обладает само общество, устройство которого научно рационализировано и технически управляемо. Исторически сложившиеся социальные практики, выступающие в отраженном виде как идеологические структуры, замещены рационально организованными и технически выстраиваемыми отношениями. Техногенный порядок общества становится не сакральным и символическим источником власти, а рационально обоснованным, опирающимся на научное знание и технические возможности.
Социальное целое отгорожено от рядового обывателя непроницаемым идеологическим экраном. Ресурс для рационализации у человека и у технически вооруженной власти несопоставим. Гражданин «просчитывается» более детально, глубина его просчета увеличивается. Выстраивание социальных отношений на основании этого приводит к тому, что поведение человека, его мотивации, цели и смыслы спроектированы и управляемы. Данная тема не нова, в XX в. она часто обсуждалась, но сегодня речь может идти еще и об увеличении интенсивности этого просчета, растущих возможностях технократии.
Социальные отношения опосредованы техникой, в определенном смысле они и есть техника. При этом «машины – единственный реальный стандарт порядка, и они сделаны так, чтобы ими было легко управлять» [5, с. 108]. Комплекс сложных общественных отношений, в том числе производственных, в значительной степени «зашит» в структуру технического устройства. Техника, обеспечивающая прежде всего социальную коммуникацию, с одной стороны, обращена к человеку, представляясь простой в управлении, с другой – сложна по внутренней структуре, повторяющей и воспроизводящей структуру отношений усложняющейся социальной коммуникации. Это положение формирует у человека представление о множественности выбора, обеспеченного техническим средством. Простота пользования, возможности техники и свобода выбора социальных отношений, на ней основанная, создает ощущение несоотнесенности, независимости от технически детерминированных обстоятельств и самих социальных отношений. Однако, как пишет С. Жижек, «идеологическая идентификация оказывает наибольшее влияние на нас, когда мы полностью осознаем, что не идентичны с ней, что под маской скрывается человеческая сущность с богатым внутренним миром: «Не все есть идеология, под этой идеологической маской я – тоже живой человек». Это та форма идеологии, которая наиболее «эффективна на практике» [6, с. 64]. Уверенность в собственной независимости, в простоте и иллюзорной понятности социальной системы и существующих отношений говорит об обратном, о зависимости и включенности сознания в существующий порядок.
Таким образом, обнаружены два аспекта, способствующие превращению техники в основу современного политического управления. Первый – момент упрощения действия со стороны рядового человека. В этом случае техника выполняет одну из основных идеологических функций, которая состоит в упрощении и «схематизации» реальности. От человека – участника отношений не требуется эквивалентное усложнение, т. е. соответствующий рост понимания сложности общества; от него не требуется рост его культуры. Данную функцию берет на себя техника, воплощая увеличивающуюся сложность социальных связей, и она же обеспечивает управляемость социальной системы.
Второй аспект – это возможность и способность власти управлять запутанными цепочками социальных отношений, реальных отношений, влияющих на состояние социальной системы. С позиции субъекта власти возникает иллюзия неидеологического взгляда, картина, на наш взгляд, представляется полностью транспарентной. Предполагается, что не существует «слепых» мест в структуре социальной системы, не доступных для рационализации, контроля и управления. Это следствие научной картины мира, которая лежит в основе технократизма. Существует только то, что доступно регистрации и что можно сделать. Если что-то можно сделать, то это нужно сделать. Техническая рациональность, которая ориентирует на максимально возможную экспликацию потенций, совпадает с политической рациональностью. Если политика – это «искусство возможного», то техника – практика реализации, т. е. «поставления» [7] возможностей. В итоге нельзя не согласиться с тезисом о том, что теперь «мы не политики, а “техники” – функционеры прогресса» [8, с. 10].
Техника становится условием «видения» мира, задает соответствующую оптику. С одной стороны, она «сокращает мир» в его масштабе, уменьшая пространство, ускоряя время, а с другой – увеличивает интенсивность и сложность социальных коммуникаций. Такой эффект можно наблюдать в современных информационных технологиях. Все инструменты, в первую очередь сеть, с технической точки зрения, по своей внутренней структуре, организации недоступны для целостного исчерпывающего восприятия субъектом. Многообразие связей не может быть охвачено человеком. Как в традиционной социальной системе большая часть реальных отношений, производящих определенное видение и определенную идеологию, скрыта от субъекта, так и в сети вся полнота связей и отношений технически доступна, но ментально, т. е. для осознания и построения исчерпывающей картины, отражающей реальность, невозможна.
Как и прежде, многие склонны думать, что человеческий мир устроен в соответствии с идеями справедливости, добра, всеобщего блага. В конкретной политической практике такие устаревшие идеологические конструкции, с которыми связаны чаяния народа или определенных групп в обществе, должны стать, с точки зрения власти, одним из параметров управления и использоваться для символического обеспечения господства. В действительности же единственный критерий отношения к идеологическим конструкциям – это эффективность достижения цели. Если эти идеологии нельзя не учитывать при принятии управленческих решений, то необходимо относиться к ним как к имеющим значение. Целеполагание также обладает технической природой, сводится к гомеостазу социально-политической системы и сохранению существующего статус-кво. Вспомним тезис Г. Маркузе о том, что «технологическая рациональность становится политической рациональностью» [9, с. 262]. Реальное управление процессами и принятие решений являются техническими вопросами. Традиционные идеологии становятся атавизмом. Они принимаются в расчет исключительно как один из параметров порядка. В действительности сложные отношения человека и мира опосредованы техникой.
Техника – это организованная деятельность, направленная «вовне» [10], деятельность по «неорганической организации сущего» [11]. Организовать и политически использовать можно лишь то, что существует. Существует только то, что технически осуществлено. Осуществимо только то, что рационально концептуализировано и научно обосновано. Таким образом, политическая практика укладывается в рамки логоцентристской картины мира и технической рациональности. Целесообразно согласиться с мнением о том, что «исчезновение трансцендентности в истории – симптомы рационализации мира, «конца политики» и замены ее «управлением» [12]. Исчезают политические проекты будущего социального устройства, перспективы некоторого «светлого будущего», утопии, которые могут пониматься как «альтернатива существующему обществу» [13, с. 26]. Произошла «герметизация технически-политического универсума» [14], в котором нет и не может быть оппозиции существующему порядку, где все может быть поставлено под контроль.
Ссылки:
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. 235 с.
-
1. Там же.
-
2. Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии. СПб., 2018. 635 с.
-
3. Там же. С. 60.
-
4. Сеннетт Р. Коррозия характера. Новосибирск ; М., 2004. 269 с.
-
5. Жижек С. Чума фантазий. Харьков, 2014. 386 с.
-
6. Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. М., 1986. С. 45–67.
-
7. Фишман Л.Г. Существует ли современное массовое сознание? // Полития. 2017. № 3 (86). С. 6–24.
-
8. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М., 2003. 528 с.
-
9. Энгельмейер П.К. Философия техники. СПб., 2013. 96 с.
-
10. Stiegler B. Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus. Stanford, 1998. 316 p.
-
11. Самарская Е.А. Политические идеологии и техника // Философские науки. 2017. № 11. С. 22–39.
-
12. Там же. С. 26.
-
13. Маркузе Г. Указ. соч.
Список литературы Техника как идеология и техническая рациональность политики
- Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. 235 с.
- Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии. СПб., 2018. 635 с.
- Сеннетт Р. Коррозия характера. Новосибирск; М., 2004. 269 с.
- Жижек С. Чума фантазий. Харьков, 2014. 386 с.
- Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. М., 1986. С. 45-67.
- Фишман Л.Г. Существует ли современное массовое сознание? // Полития. 2017. № 3 (86). С. 6-24. DOI: 10.30570/2078-5089-2017-86-3-6-24
- Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М., 2003. 528 с.
- Энгельмейер П.К. Философия техники. СПб., 2013. 96 с.
- Stiegler B. Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus. Stanford, 1998. 316 p.
- Самарская Е.А. Политические идеологии и техника // Философские науки. 2017. № 11. С. 22-39.