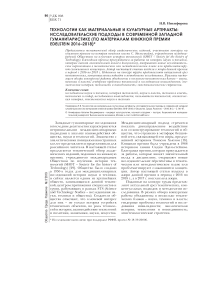Технологии как материальные и культурные артефакты: исследовательские подходы в современной западной гуманитаристике (по материалам книжной премии Edelstein 2016-2018)
Автор: Никифорова Наталия Владимировна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Культурное наследие
Статья в выпуске: 3 (52), 2019 года.
Бесплатный доступ
Предлагается тематический обзор академических изданий, участников конкурса на книжную премию по истории техники имени С. Эдельстайна, учрежденную международным Обществом по изучению истории технологий (SHOT - Society for the history of Technology). Ежегодная премия присуждается за работы по истории науки и техники, которые вносят значительный вклад в дисциплину, открывают новые исследовательские перспективы в тематическом или методологическом плане или проблематизируют сложившиеся концепции. Автор настоящей статьи входила в жюри данной премии в период с 2016 по 2018 г. Поданные на конкурс труды представляют актуальный срез тематических, концептуальных подходов и методологии исследования. В рамках настоящего обзора конкурсные работы объединены в несколько тематических блоков - наука, техника и власть; гендерные проблемы технологий и исследования инвалидности; экологическая история; технологии и повседневность; эпистемологические стратегии.
Исследования науки и техники, история технологий, наука и власть, техника и власть, технологии и гендер, исследования инвалидности, пользователи технологий, экологическая история, эпистемология науки и техники
Короткий адрес: https://sciup.org/140244715
IDR: 140244715 | УДК: 008
Текст научной статьи Технологии как материальные и культурные артефакты: исследовательские подходы в современной западной гуманитаристике (по материалам книжной премии Edelstein 2016-2018)
Никифорова Н.В. Технологии как материальные и культурные артефакты: исследовательские подходы в современной западной гуманитаристике (по материалам книжной премии Edelstein 2016–2018) // Общество. Среда. Развитие. – 2019, № 3. – С. 90–97.
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019
Западные гуманитарные исследования в последние десятилетия характеризуются нетривиальными междисциплинарными подходами к анализу взаимодействия общества, науки и технологий. Знакомство с аналитическими позициями иностранных коллег представляется продуктивным для российского читателя. В настоящей статье предлагается тематический обзор академических изданий, поданных на книжную премию, учрежденную международным Обществом по изучению истории технологий (SHOT – Society for the history of Technology) [29]. Общество было создано в 1950-х годах для междисциплинарных исследований истории науки и техники, и сейчас является одним из крупнейших обществ, занимающихся данной тематикой, центром притяжения специалистов и групп, работающих в рамках STS (Science and Technology Studies – исследования науки, техники и общества). Создатели общества отмечают, что ключевой интерес для них – не только история устройств технических объектов, но роль технологий в истории, взаимодействие технологий и политики, экономики, науки, искусства.
Междисциплинарный подход стремится показать двунаправленное воздействие или со-конструирование технологий и общества, что отражено в метафоре бесшовной сети, связывающей эти миры, предложенной историком Томасом Хьюзом [18]. Книжная премия была учреждена в 1968 историком химии Сидни Эдельстейном. Ежегодная премия, которая присуждается за работы, которые вносят значительный вклад в дисциплину, открывают новые исследовательские перспективы в тематическом или методологическом плане или проблематизируют сложившиеся концепции. Автор настоящей статьи входила в жюри данной премии в период с 2016 по 2018 г., а в 2017 г. возглавляла жюри.
Поданные на конкурс труды представляют актуальный срез тематических, концептуальных подходов и методологии исследования. В рамках обзора конкурсные работы объединены в несколько тематических блоков – наука, техника и власть; гендерные проблемы технологий и исследования инвалидности; экологическая история; технологии и повседневность; эпистемологические стратегии.
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-39-20006.
Значимый тематический блок с самого зарождения STS представляет проблема власти в контексте науки и техники – как в технических артефактах и системах проявляются властные режимы и политические сценарии; как политический контекст влияет на содержание технонаучных проектов и их презентацию обществу; как наука и техника связаны с национальной идентичностью. Например, П. Шульман показывает связь энергетики и политики в XIX в. [28]. Он описывает становление энергетической геополитики в Америке XIX века, когда главным топливом была не нефть, а уголь для паровых двигателей. Анализируя роль дипломатов, морских офицеров, политиков, а также ученых и инженеров – от разработчиков паровых котлов до геологов – автор показывает, что именно технический прогресс был в центре американской внешней политики. Считается, что геополитика и энергетика связаны только в XX веке, после Первой мировой войны. Шульман связывает паровую энергетику с внешней политикой и морской логистикой США на более раннем этапе. Поиск угля привел к установлению отношений Америки с Японией в XIX веке, а также был связан с колонизацией Панамы Авраамом Линкольном. Вопросы, связанные с углем, стимулировали не только появление новых технологий, но и политические решения и стратегии, связанные с контролем маршрутов и границ.
В ряде работ проблематизируется тема научной и инженерной деятельности при авторитарных режимах. Ученые и инженеры, работавшие при режиме Франко, как правило, изображаются и воспринимаются как подавленные, работающие под гнетом или даже вопреки режиму. Л. Кампру-би показывает, что на самом деле, именно инженеры и ученые принимали активное участие в выстраивании политики и задавали актуальную повестку [9]. Испания после гражданской войны взяла курс на восстановление, что позволило именно техническим специалистам занять лидирующие позиции. Кампруби подчеркивает также, что между католической церковью и научными лабораториями установились прочные взаимоотношения: церкви строили внутри лабораторий, а политические лидеры поддерживали строительство одновременно и церквей, и лабораторий. В рамках аграрного преобразования Испании церкви репрезентировались как лаборатории по «производству» новых граждан – хороших католиков и эффективных работников, способных вместе с промыш- ленностью преобразовать государство и природный ландшафт [9, c. 130]. Лаборатории и церкви стали пересечением двух основных стратегий обновления государства – национального католицизма и технологического развития. Главы книги построены в формате микроистории конкретных проектов и инициатив и все вместе складываются в сложный нарратив о взаимодействии институций, артефактов, людей и знаний, участвующих в формирования нового государства.
Т. Сарайва также анализирует период начала XX в. – он рассматривает науку в фашистских государствах, выявляя связи между фашистским дискурсом и технона-учными организмами (гибридные сорта пшеницы, селектированные сорта картофеля, специально выведенные породы свиней) [27]. На политическом уровне эти новые объекты должны были помочь Португалии, Италии и Германии в выстраивании режима и достижении самостоятельности и независимости. Ученые разрабатывали «технонаучные организмы», руководство страны отбирало наиболее подходящие и активно внедряло их в сельское хозяйство. Как правило, освоение новых «организмов» на практике было дорогостоящим проектом и требовало специальных труднодостижимых условий. Для землевладельцев это часто оборачивалось убытками и долгами. Но через эти практики формировалась сложная сеть взаимодействий и укреплялась связь между правительством, научными корпорациями и землевладельцами, что позволяло строить прочное национальное государство. Автор отмечает, что, анализируя фашистские режимы, важно принимать во внимание двунаправленный характер получения выгоды – правительства тянули на свою сторону ученых, способных дать им необходимые для консолидации и развития страны продукты. В свою очередь, ученые находили в правительстве союзника, дающего ресурсы для развития разработок, созданных задолго до установления нового политического режима.
На конкурс также поступили ряд работ из книжной серии Making Europe (Создавая Европу) – это междисциплинарный проект, посвященный истории формирования европейской культуры и идентичности через взаимодействие институций, персоналий, технологических артефактов, систем и инфраструктур. Коллективная монография “Europe’s Infrastructure Transition. Economy, War, Nature” (Европейская инфраструктурная трансформация. Эконо-
Общество
мика, война, природа) – это масштабное комплексное исследование того, как сфор- мировались современные мировые технологические системы и как был преобразован природный ландшафт, также ставший сам по себе в инфраструктурной системой [16]. Отправной точкой исследования являются «большие технологические систе-
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019
мы» (термин наследует подходу классика STS Т.П. Хьюза). Еще одна коллективная работа “Europeans Globalizing Mapping, Exploiting, Exchanging” (Как европейцы глобализировались. Картографирование, эксплуатация, обмен) демонстрирует, как технологии выступили в роли посредников европейского влияния во всем мире, и в свою очередь, изменили самих европейцев [11]. Европейцы осваивали новые территории, изучали и истощали их ресурсы, строили инфраструктурные проекты, подчиняли местное население, доходя до геноцида. Эти сложные системы взаимодействий формировали отношения зависимости с обеих сторон – со стороны и метрополий и колоний – стимулируя возникновение гибридных форм знаний, навыков и технологий.
Книга Л. Коулмана “A Moral Technology. Electrification as Political Ritual in New Dehli” (Моральная технология. Электрификация как политический ритуал в Нью-Дели) [10]. показывает, что технологии – это не просто набор технических процессов и процедур, не просто артефакт, но также воплощение политических, социальных и моральных смыслов. Автор опирается на три примера (он называет их «моральными моментами» в истории электрификации) – торжественная церемония в 1903, включающая ритуализированное церемониальное использование электрического света для репрезентации Британской империи; электрификация Дели в XX в. – превращение города в модерное пространство и связь электричества и политики в Индии, достигшей независимости; третий сюжет – начало XXI в., приватизация и децентрализация электроэнергетики и превращение электроэнергии в повседневный товар, а также связанные с этим социальные практики.
Две книги, поступившие на конкурс, были посвящены истории советских научно-технических проектов и рассматривали ход их реализации в контексте политической конъюнктуры и идеологических смыслов. Работа П. Хогселиуса посвящена становлению европейской зависимости от российского газа в XX в. [17]. Решение европейских стран заключить контракты с
Россией было принято в период холодной войны и связано с тем, что для некоторых стран это был единственный источник газа. Некоторые страны объясняли это экологическими причинами – стремились перейти с угля на газ, в ряде случаев были и политические мотивы – Австрия, желая отвлечь внимание СССР, заключила с ним контракт, параллельно упрочивая отношения с НАТО. Франция и Западная Германия стремились таким образом показать свои намерения укрепить отношения с Советским Союзом. Взаимоотношения с СССР в формате обеспечения газом были своего рода политической валютой в международных отношениях, а переговоры по этим вопросам становились важной площадкой для демонстрации технологий.
Б. Петерс исследует историю «советского интернета» и приходит к выводу, что сетевые проекты не были реализованы в СССР не из-за недостатка концептуальных или технических решений (их было с избытком), а из-за сложной схемы институциональных взаимодействий различных акторов (Министерства обороны, Госплана, научных институций, партийного руководства) [22]. Книга, в основном, посвящена проекту В. Глушкова ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации), который не был до конца реализован, пог-рязнув в бесконечных согласованиях и комиссиях, также он был остановлен рядом случайностей. Кроме анализа конкретных исторических ситуаций Петерс предлагает более масштабный взгляд на характер сетевых проектов XX века и суть Web в современном обществе. Интернет и информационное общество сейчас неизбежно связывают с идеями демократии, свободы, коммерции, децентрализации. Однако в советском проекте информационные технологии были призваны служить социалистическим идеалам и принципам плановой экономики. То есть, информационные технологии могут быть нагружены разными культурными смыслами, а видение конфигурации и задач электронной коммуникационной системы (иерар-хичность/децентрализованность, верти-кальность/горизонтальность) оказывается обусловлено политическим контекстом.
Проблема власти в исторических исследованиях техники ставится не только с точки зрения научно-технической политики, международных отношений и управления. Значимой для западных гуманитарных исследований, и в частности в исследованиях науки и техники, является тема властных отношений в пространстве культуры – выделение доминирующих и подчиненных социальных групп (маркером может быть гендер, раса, здоровье и т.д.), реализация властных отношений в профессиональной среде, городском пространстве, инфраструктуре и технологиях. Так, книга М. Хикс “Programmed Inequality. How Britain Discarded Women Technologists and Lost its Edge in Computing” (Запрограммированное неравенство. Как Британия сбросила со счетов женщин-технарей и утратила свое компьютерное лидерство) анализирует историю участия женщин в (и их исключения из) компьютерной индустрии [15]. В 1970-х гг. Британия реализовывала компьютеризацию промышленности и государственной сферы, этот процесс называли компьютерной революцией. Но революция не изменила социальный порядок, а «забетонировала» существующий гетеронормативный режим, не предоставив женщинам никаких стратегий реализации кроме семейной. При том, что в послевоенный период сфера программирования и компьютеров была намеренно феминизирована. В 70-х большое число женщин с техническими компетенциями были вытеснены с трудового рынка и не смогли влиться в формирующуюся компьютерную среду. Хикс не просто фиксирует гендерное неравенство, но выдвигает тезис о том, что для Великобритании невключение исключение женщин из орбиты компьютеризации стоило потери технологического лидерства.
Тему гендера также продолжает исследование А. Кокурек, которое рассматривает конструирование индустрии видеоигр в Америке как пространство исключительно белых юношей из семей среднего класса. В такой оптике полностью игнорировались любые другие социальные группы, в особенности девушки. Ассоциирование видеоигр с маскулинностью сформировало дискурс об играх либо как о явлении, стимулирующем насилие, либо как о формах тренировки технических компетенций, необходимых мужчинам.
Целое направление исследований фокусируется на людях с ограниченными возможностями и их практиками взаимодействия с технологиями (disability studies). Исключение таких людей из поля зрения инженеров или разработка технических решений, отвечающих их потребностям, можно трактовать как процессы доминирования или наоборот распределения власти между социальными группами. В книге “Building Access. Universal Design and the Politics of Disability” (Предоставить доступ. Универсальный дизайн и политика инвалидности) описано, как в западной культуре кодифицировались представле- ния о «нормальном» теле, воплотившиеся среди прочего в канонах модернистской архитектуры и дизайна [13]. В таких пространствах не было места людям с неидеальными (ненормативными) телами. Ситуация несколько изменилась в середине XX в., когда дизайнеры включили в поле зрения «гибкого» пользователя, подразумевая вариативность дизайна. Но, по мнению автора, речь для них шла скорее о дополнительных способах включения пользователей в систему потребления, чем о проблематизации и смещении границ нормы. В книге приводятся примеры американских архитектурных и интерьерных проектов «для всех», но тем не менее все более фиксирующих нормативность «правильной» телесности и расовой принадлежности.
Еще две работы также рассматривают людей с ограниченными возможностями как пользователей технологий – Э. Петрик рассматривает историю создания программного обеспечения для слепых и слабовидящих, которое было реализовано благодаря запросам и обратной реакции пользователей, воспринятой инженерами [23]. Л. Молдин анализирует социальные практики, формирующиеся в связи с использованием детских кохлеарных имплантов [20]. Автор анализирует глухоту не только как медицинское состояние, но и как определенный способ бытия в мире.
В поле зрения историков науки и техники попадают вопросы взаимодействия природы, общества и технических систем – это поле принято маркировать как экологическую историю. Ученых интересует, как концептуализируется природа в связи с индустриальным развитием, как меняются регионы и сообщества и как трансформация природного ландшафта связаны с социальными изменениями.
В. Бойд, автор книги – победителя конкурса 2016 г., описывает формирование целлюлозно-бумажной промышленности на юге Америки в XX веке, фокусируясь на экологических и социальных последствиях [7]. Чтобы регион превратился в промышленный центр потребовались новые технологии ухода за деревьями, рационализация ландшафта, внедрение новых правил пользования лесами, изменение налогового законодательства, противопожарные технологии. Применялись технологии для ускорения роста деревьев,
Общество
и для корректировки состава древесины. Появившиеся предприятия создали рынок продукции и новый рынок труда. По сути индустриализация американского юга сформировала в этом регионе новую природу – гомогенизированную, не имеющую разнообразия, индустриальную. Задет был также социальный ландшафт
– индустриализация региона привлекла большие инвестиции, а вместе с ними дис-
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019
криминационную расовую трудовую политику. При этом корпорации заботились о промышленных лесных угодьях, игнорируя местные сообщества, страдающие от повышенных загрязнений В исследовании объединены сюжеты, связанные с организацией промышленности, системы доставки древесины на производства, а также подчинение политических, трудовых и расовых принципов региона крупномасштабной коммерческой выгоде.
К вопросам экологических изменений обращаются Л. Жанг, К. Пьец. К. Ланг. Исследования по истории реки Хуанхэ затрагивают вопросы о том, как политические идеалы и культурные стандарты влияли на государственные планы управления водными ресурсами [24], а также на судьбу местных сообществ, расположенных живущих на территориях в русле реки [31]. К. Ланг в экологической истории реки Бразос рассказывает о людях, которые жили в регионе и об их стратегиях «приручения», технологического освоения природы и регулярных поражениях. При этом река оказывалась своего рода «культурным мостом» между севером и югом США – в программах освоения региона социокультурные рамки двух региональных парадигм должны были сталкиваться и формировать гибридные подходы [6].
В последние десятилетия исследования науки, технологий и общества обращаются к фигуре пользователя – к анализу пользовательских стратегий в адаптации технических артефактов и систем, примерам отказа от технологий. Пользователь из пассивного реципиента артефактов трансформируется в активного создателя смыслов, интерпретаций и сценариев применения, что порой приводит к созданию новых технологий. Такая аналитическая перспектива предполагает обращение к анализу истории повседневности и критический взгляд на практики, которые сегодня могут восприниматься как само собой разумеющиеся. Обширное число работ затрагивали тему технологий в повседневной жизни. К. Джума размышляет о том, каким образом восприни- маются инновации и что может помешать их внедрению. Автора интересуют этические, экологические, политические факторы, заставлявшие людей отказаться от новых технических решений – по его мнению, исторический анализ должен опираться не только на историю триумфов, но и на историю тупиковых технологий [8]. Книги Э. Фрисса и Л. Томорой рассматривают технологические инфраструктуры и их влияние на городское общество XIX в. Велосипедный транспорт практически изменил облик американских городов и представления об урбанистических идеалах в конце XIX в. [12]. Однако утопия «велосипедного города» с демократическими пространствами, отсутствием загрязнений и мягкой границей между городом и деревней сменилась авто-центричными представлениями и города снова изменились. Томорой описывает, как технологии водоснабжения попали в Англию с континента и позволили создать успешную отрасль, а в последствии были изобретены локальные инновации, востребованные позднее во всем мире [30].
Т. Муллани исследует историю китайской печатной машинки – предмет, представляющийся рутинным в западной культуре, в восточном мире был символом изменений и технологического развития [21]. Создать печатную технологию для языка, в котором тысячи символов, потребовала «цивилизационного решения» по формированию новых коммуникационных практик и форм упорядочивания единиц языка. Эти способы организации языка дистанцировались от западного алфавитного принципа и смогли сформировать субстрат современной мощной китайской цифровой индустрии.
Даже тема гигиены попадает в орбиту культурной истории техники – Р. Херциг рассмотрела историю удаления волос в Америке и связанные с этим процессом культурные смыслы и технологии [14]. Для американцев XVIII в. волосы на теле были маркером расовых различий (у коренных жителей волос на теле не было). В XIX в. проблема «нежелательных» волос начала беспокоить американок в связи с концептуализацией маскулинности и феминности, намеченной дарвиновской концепцией – женское тело не должно было быть волосатым. Постепенно удаление волос с женского тела стало формой социального контроля, убеждавшим, что женское тело несет проблемы, которые нужно решать. Так, в нарративе Херциг, история тела переплетается с проблема- ми гендера, историей иммиграции, труда и промышленности.
Еще одну группу конкурсных книг следует выделить в отдельный эпистемологический блок – в них авторы, анализируя конкретные историко-технические кейсы, охватывают теорию и историю знания . В этих работах предложены новаторские теоретические перспективы и способы концептуализации времени, пространства, природы, знания.
Книга-победитель 2017 г. “After the Map: Cartography, Navigation, and the Transformation of Territory in the Twentieth Century” («После карты: картография, навигация трансформация территории в XX в.») посвящена истории географического знания и стремится выявить, как изменялось восприятие территории в связи с технологиями картографирования [26]. Ранкин предлагает термин «геоэпистемология», подразумевая, что важно понимать не только, что мы знаем о мире и пространстве, но и как мы это знание получаем. Причем, история пространственного знания неизбежно оказывается политической – территория и знание о ней связаны с концептом суверенитета. Географические карты – это репрезентация в миниатюре, взгляд с высоты птичьего полета. Создание «правильных» карт в XIX в. рассматривалось как проблема научной истины, связываясь с добродетелями объективности и нейтральности, упускающая из виду редукцию объектов, значимых для локальных сообществ. Технология GPS вместо абстрактного взгляда сверху предлагает виртуальный ландшафт с позицией пользователя в центре. Это уже не репрезентация, а презентация пространства, и для ее создателей приоритетна не забота об истине или объективности, а практичность. Благодаря картографии происходит коммодификация пространтва превращение его в предмет потребления наподобие электричества или воды. Все формы пространственных технологий связаны с властью – идет ли речь о сборе налогов и контроле границ в XIX в. или военных операциях с использованием GPS в XXI в. Но в новой пуантилистской (pointillist) логике координат границы государств на картах уже не являются границами действия – территория отделяется от суверенитета и способствуют появлению новых видов интервенции и управления.
В. Огл анализирует историю глобализации времени и стратегии, которые использовались для этого в разных сообществах. Исследование спорит с традиционным представлением, что абстрактное время было быстро адаптировано во всем мире вместе с развитием капитализма. Огл полагает, что даже после разработки математического понятия среднего астрономического времени в XIX в. долгое время сосуществовали различные временные режимы – индустриальные, механические, а также локальные, традиционные, природные, персональные. Единого и неизбежного сценария перехода к универсальному времени не существовало. Один из примечательных аргументов книги – то, что параллельно проходили и подпитывали друг друга два процесса – глобализация, сближение государств и культур, благодаря капитализму и технологиям коммуникации, при этом развивались специфичные национальные сообщества и идентичности. С категорией универсального времени работали и в не-западном мире (в Китае, Японии, Османской империи), интерпретируя ее задачи иначе и «прилаживая» ее к собственным политическим задачам.
Дж. Радин, разрабатывая историю технологий хранения крови и тканей, затрагивает более широкие историографические и эпистемологические вопросы о культурных смыслах понятий жизни, онтологии, концептуализации расы, тела его границ и типов, а также о специфике модерности [25]. В период холодной войны американские ученые собирали образцы крови представителей коренных народов (предполагая, что эти народы находятся в гармонии с природой и потому ценны с научной точки зрения) и эта «спасительная биология» (“salvage biology”) был призвана сформировать фундамент будущего здравоохранения. В книге также есть темпоральное измерение – практики и дискурсы, сформировавшиеся вокруг технологий заморозки продуцировали различные понимания времени (антиципация, остановка времени, воображаемое будущее и т.д.). Радин называет холодильник «протезом времени» (“temporal prosthesis”), нарушающим стандартную хронологию живых организмов.
Оригинальный пример методологического подхода к исследованию истории технологий предлагает Э. Джонс-Имхотеп, автор книги-победителя 2018 г. “The Unreliable Nation: Hostile Nature and Technological Failure in the Cold War” (Ненадежная нация: враждебная природа и технологические провалы во время холодной войны) [19]. Для наций достаточно распространенной стратегией является идентификация с научно-техническими
Общество
триумфами, а также со способностью подчинить климатические условия. Однако, как показывает Имхотеп, альтернативная идентичность – с технологическими про- валами и природными аномалиями – также возможна. В начале исследования автор предлагает аналитическое разграничение между концептами «природной среды» (то, что должно быть подчинено наукой) и природного порядка (то, что должно быть познано и упорядочено наукой). Для Канады времен холодной войны определяющим природным порядком стали ионосферные возмущения и северные сияния, нарушающие радиосвязь со стратегически важным арктическим регионом. Так, природный порядок оказался связан с «технологическим порядком» - постоянными нарушениями коммуникаций, которые в свою очередь обуславливали стратегически важное положение Канады в послевоенной геополитике. Во время войны канадские ученые обнаружили связь между техническими неполадками и природными явлениями, сделав канадские научные разработки необходимыми для военных успехов. А после войны в Канаде было организовано специальное научное подразделение по изучению телекоммуникаций, продвигающих специфичность канадский ионосферных исследований. Ученые опирались на представление, что определенные виды неполадок в телекоммуникационных устройствах, в соответствии с показаниями ионограмм, легитимировали канадский научный проект как более точный и корректный по сравнению с другими странами, а также независимый от британской и американской науки.
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019
Итак, конкурсные книги демонстрируют разноплановость тематических подходов и методологических стратегий анализа истории науки и техники. Пожалуй, все современные работы в данном поле объединяет погруженность в широкий социокультурный и политический контекст. Рассматриваемые технологии или научные проекты результируются из определенных культурных установок, идеологических представлений, этических стандартов. Технологии – это больше чем набор материальных деталей, а исто-
Список литературы Технологии как материальные и культурные артефакты: исследовательские подходы в современной западной гуманитаристике (по материалам книжной премии Edelstein 2016-2018)
- Вишленкова Е.А. Русские профессора: университетская корпоративность или профессиональная солидарность. - Москва: Новое литературное обозрение, 2012. - 648 с.
- Как становятся профессорами: академические карьеры, рынки и власть в пяти странах. - Москва: Новое литературное обозрение, 2015. - 822 с.
- Кулиничева, Е. Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви. - М.: Новое литературное обозрение, 2018. - 371 с.
- Проекты ЦГИ РАНХиГС под руководством А.Л. Зорина "Научно-техническая интеллигенция в историко-культурной перспективе: формирование среды, мировоззрения и трудовой этики" (2012 г.), "Идеология и практика технологического прорыва: люди и институции" (2013).
- Социальная история отечественной науки. Проект при участии Института истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН. - Интернет-ресурс. Режим доступа: old.ihst.ru/projects/sohist
- Archer K.L. Unruly Waters: A Social and Environmental History of the Brazos River. - Albuquerque: University of New Mexico Press, 2015. - 288 p.
- Boyd W. The Slain Wood: Papermaking and Its Environmental Consequences in the American South. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015. - 376 p.
- Calestous J. Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies. - New York: Oxford University Press, 2016. - 416 p.
- Camprubi L. Engineers and the Making of the Francoist Regime. - Cambridge, MA: MIT Press, 2014. - 224 p.
- Coleman L. A Moral Technology: Electrification as Political Ritual in New Delhi. - Ithaca, NY: Cornell University Press, 2017. - 232 p.
- Diogo M.P., Van Laak D. Europeans Globalizing: Mapping, Exploiting, Exchanging. - London and New York: Palgrave Macmillan, 2016. - 352 p.
- Friss E. The Cycling City: Bicycles and Urban America in the 1890s. - Chicago: University of Chicago Press, 2015. - 267 p.
- Hamraie A. Building Access: Universal Design and the Politics of Disability. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017. - 352 p.
- Herzig R. M. Plucked: A History of Hair Removal. - New York: New York University Press, 2015. - 280 p.
- Hicks M. Programmed Inequality: How Britain Discarded Women Technologists and Lost Its Edge in Computing. - Cambridge: MIT Press, 2017. - 352 p.
- Högselius P., Kaijser A., van der Vleuten E. Europe's Infrastructure Transition: Economy, War, Nature. - New York: Palgrave Macmillan, 2016. - 454 p.
- Högselius P. Red Gas: Russia and the Origins of European Energy Dependence. - New York: Palgrave Macmillan, 2013 - 280 p.
- Hughes, Thomas P. The Seamless Web: Technology, Science, Etcetera, Etcetera // Social Studies of Science 16. - 1986, № 2 (May). - P. 281-92.
- Jones-Imhotep E. The Unreliable Nation: Hostile Nature and Technological Failure in the Cold War. - Cambridge, MA: The MIT Press, 2017. - 312 p.
- Mauldin L. Made to Hear: Cochlear Implants and Raising Deaf Children. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016. - 224 p.
- Mullaney T.S. The Chinese Typewriter: A History. - Cambridge, MA: MIT Press, 2017. - 481 p.
- Peters B. How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet Internet. - Cambridge, MA: MIT Press, 2016 - 312 p.
- Petrick E.R. Making Computers Accessible: Disability Rights and Digital Technologies. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015. - 207 p.
- Pietz D.A. The Yellow River: The Problem of Water in Modern China. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015. - 367 p.
- Radin J. Life on Ice: A History of New Uses for Cold Blood. - Chicago: University of Chicago Press, 2017. - 288 p.
- Rankin W. After the Map: Cartography, Navigation, and the Transformation of Territory in the Twentieth Century. - Chicago: University of Chicago Press, 2016. - 416 p.
- Saraiva T. Fascist Pigs: Technoscientific Organisms and the History of Fascism. - Cambridge: MIT Press, 2016. - 344 p.
- Shulman P. Coal and Empire: The Birth of Energy Security in Industrial America. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015. - 336 p.
- Society for the History of Technology. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.historyoftechnology.org
- Tomory L. The History of the London Water Industry, 1580-1820. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2017. - 314 p.
- Zhang L. The River, the Plain, and the State: An Environmental Drama in Northern Song China, 1048-1128. - Cambridge: Cambridge University Press, 2016. - 328 p.