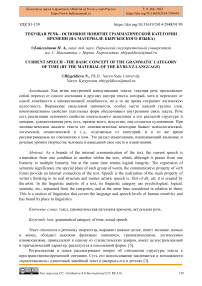Текущая речь - основное понятие грамматической категории времени (на материале кыргызского языка)
Автор: Бийгелдиева Нуржан Абдыгуловна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 6 т.9, 2023 года.
Бесплатный доступ
Как ветвь внутренней коммуникации текста, текущая речь представляет собой переход от одного состояния к другому внутри текста, который, хотя и переходит от одной линейности к множественной линейности, но в то же время сохраняет логическую целостность. Выражение смысловой значимости, особое место каждой группы слов, коммуникативное свойство глагольных форм обеспечивают внутреннюю связь текста. Речь есть реализация основного свойства писательского мышления в его реальной структуре и материи, художественная речь есть, прежде всего, искусство, она создается художником. При лингвистическом анализе текста его лингвистическая категория бывает психологической, логической, семиотической и т. д., отделяемые от категорий, и в то же время рассматриваемые по отношению к ним. Это раздел языкознания, охватывающий языковые и речевые уровни творчества человека и нашедший свое место в языкознании.
Текст, грамматическая категория времени, актуальная речь
Короткий адрес: https://sciup.org/14127814
IDR: 14127814 | УДК: 81-139 | DOI: 10.33619/2414-2948/91/95
Текст научной статьи Текущая речь - основное понятие грамматической категории времени (на материале кыргызского языка)
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 81-139
Текст относится к речевому творчеству, выражает важное целое, имеет заглавие, начало и конец, обладает высоким фразовым значением, грамматическими, логическими взаимосвязями, принадлежит к одному из стилистических жанров, имеет целеустремленный и прагматический характер, реализуется в письменной форме [5].
Ретроспектива и поиск рассматривают вопрос об отношении структуры текста к пространственно-временной ситуации. Суть его использования заключается в возможности «приостановить» единичный линейный текст и раскрыть его в деталях [3].
Ретроспекция — форма временного континуума, художественная категория текста, реализующая заданную автором целеустремленную направленность, она обращает внимание читателя на ранее описанный факт и вновь дает о нем новую информацию [2].
Проспект — это речевой элемент, предоставляющий содержательно-фактическую информацию, обладающий способностью воссоздавать и планировать ее. Это конструктивный прием, информирующий читателя (слушателя) о том, какая информация будет доступна заранее в процессе обсуждения темы выступления [6].
Исходным понятием грамматической категории времени является текущая речь, которая протекает в форме ретроспекции (retrospection) или предсказания (prospection), т.е. текущий процесс — о каком бы событии ни говорилось в тексте, он будет непрерывно останавливаться, а текущая речь будет появляться в середине. Например: В этом великом космическом событии сбор и анализ воды Планеты X будет самым ранним свидетельством промышленной деятельности человека за пределами его родной планеты. Этот день приближается. Все мысли и цели были посвящены этому [1].
Автор, подробно объясняя текст читателю, остановил линейность и сделал возможным доступ к нему во «временном соединении». В середине повествования появился нынешний разговор о феномене геологоразведки — предсказания того, что человечество в будущем создаст свою внеземную цивилизацию.
От романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день» до приведенного примера, история рассказывалась в своем порядке, одной строкой, т.е. автор рассказывал о происшедшем там событии (приезд Айзады) накануне вечером перед отъездом в Эне-Бейит.
Вечером пришла Айзада с мужем. Как только он подошел к дому, то громко заплакал (оплакивая отца Казангапа), а потом остановился. Кажется, смерть отца разбила Айзаде сердце: она громко плакала вместе с отцом, она долго плакала, говоря, что ей не на кого опереться, некому ее утешить, что муж ушел за алкоголем , что у нее подрастают дети, и что она долго плакала [1].
Сабитжан тогда упал на зятя, сказав дотронуться до щеки его жены, а тот, еле сев, снова упал, прижав Сабитжана [1].
Едигей опять ночевал. Снова в голове разболелись те же душераздирающие вопросы: кто нарисовал этих детей, почему они стали такими?
Эдильбай пригласил всех мужчин в свой дом, чтобы уладить ссору между братом и сестрой. Они стучали Ардеме по голове и разговаривали [1].
Слушав шум проходящих через разъезд поездов, Едигей почему-то вспомнил волны Аральского моря. Он родился у этого моря и до войны вырос в Ошере. Казань тоже стала аральским казахом.
Прежде чем умереть от гнева, они оба отправились на остров в конце весны. «Этот остров был там с незапамятных времен, — сказал Казанап, — и теперь он достиг старости». Человеческая жизнь рядом с этим». Затем он снова сказал: «Ты положил мое тело в Эне-Бейит». Так я прощаюсь с морем!» [1].
В этой сцене автор объединил периодический пробел произведения в единое целое и призвал взглянуть на текст из прошлого. Это ретроспективное явление, созданное на основе содержательно-фактологической информации.
Связь между текущим процессом и текущей речью определяется грамматическим глагольным временем. Эта связь проявляется в системе форм категорий времени (темпорально-зрительных и языково-грамматических). Неязыковая текущая речь есть определенный момент объективного времени, она всегда находится в движении и находится вне и независимо от нашего сознания, хотя и вне языка, рассказчик направляет свою речь непосредственно на себя в ситуации непосредственного общения. Текущая речь будет иметь языковую и грамматическую форму. Создается на основе наглядно-содержательного плана грамматико-глагольной формы времени.
Грамматическая семантика временной формы глагола — быть на уровне текста определяет непосредственную связь между автором и настоящим временем, показывает счет «прошедшего» или «будущего» периода. Например: Между ними ничего нет. Арыков назвал это холодной стеной. Стены музея были очень холодными.
Арыков хотел уехать далеко, чтобы сбежать от этого — в свое детство. Он был беспокоен, как будто всю жизнь готовился к этой поездке. Это единственная лучшая страна, где ты никому не позволяешь, кроме себя, ты не управляешь никем, кроме себя. Это худшее и лучшее.
Всегда вспоминается эта история, случившаяся в третьем или четвертом классе. Он снова вошел три дня назад.
... В этот момент труп холодной тележки всегда преследует меня. И в конце концов, он остановил меня, а его потащила твоя мать [4, с. 48].
... Я искал своего отца среди людей. Но его по-прежнему нигде не было видно [4, с. 49].
... Арыков помнит тот день, как каждый день. Он написал длинное письмо своей бабушке, которая жила в таком же холодном месте среди далеких гор Памира.
... "Где, письмо?" - сказал он, и расправил подол своей изношенной рубахи цветами, а Арапай, как обычно, встал на коня и бросила его, письмо не упало на бабушкину юбку, а попало в собачью ногу, бабушка искала письмо и терла холодную землю [4, с. 65].
В приведенном примере из романа «Холодные стены» Кубатбека Жусубалиева реализована временно-пространственная форма, сохраняющая содержание литературного описания, видимое в определенных пределах повествования, на разных расстояниях. Это ретроспективная категория, которая вносит разрыв в континуум, актуализирует ранее описанное событие, дает содержательно-фактическую информацию содержательнопонятийной части.
Ретроспекция создала эмпирический тезаурус читателя, т.е. наряду с найденной в тексте информацией он ее обеспечивал, организовывал ее восприятие, благодаря чему в художественном произведении просматривалась «связь времени».
... Головы деревьев, которые посажены прямо, как будто их нарисовали со всех сторон, навеки сплелись друг с другом, так что ни солнце, ни снег, ни дождь не проходят. Однако, как и все хорошее в мире, этот переулок короток и длится совсем немного.
…Только в дальнем конце переулка был свет, как рукав. Пропитанный дождем асфальт отражался в рукавном свете, сияя, как зеркало.
... Кажется, он даже сейчас чувствует густой запах того дня [4, с. 44-45].
Понятие текущей речи и понятие временного центра относятся к нарративному уровню. Они появляются при взаимодействии эмпирически-временного плана с кем-то, кто создан в реальности, непосредственно связан и отражает уровень повествования. В понимании роли темпорально-визуальной формы в художественном тексте необходимо выйти за рамки включенного в него парадигматико-синтагматического подхода и принять во внимание интегративный подход.
... Я всегда просыпался в это время. На этот раз я не проснулся. Потому что я должен быть мертв. Вокруг меня много людей. Я искал своего отца среди них. Но его нигде не было видно [4, с. 48].
...Мужчина мягко опустил меня на мое место. Я только что впервые посмотрел на его лицо. Это был мой собственный отец [4, с. 49].
...От имени Арапбая, она спустилась к избе, держала письмо в грязной руке бабушки, а когда она снова села на лошадь, вошла бабка в слезах, целуя письмо и прося ее позвать сына соседа Тагая, который учился в школе.
...Да ладно, что будет с днем моего сына, которого я построила в воздухе, хоть я и плакала, кто у него еще есть, кроме меня, этот глупый и жестокий отец? [4, с. 65]. Создание взаимосвязанных мотивов (отец, бабушка, чтение Корана, саморефлексия и др.) в контексте вышеназванного произведения и тема воспоминаний о детстве интерпретируются как основная тема романа Кубатбека Джусубалиева.
Он помнит письмо, которое написал бабушке, свой сон и последний разговор с бабушкой - "не сожги себя, сожги чужую жизнь и получи честь".
... «И как же мой бог сделал меня ребенком и отцом ему, эта чепуха, возьми его в свой дом, моего сына [4, с. 66].
...Трехлетний сын Тагая, который вел бабку, пришел сказать матери, что отец Арыкова не пускает бабушку в дом, и бабушка сидела до захода солнца, прислонившись к холодной стене из дома своего сына, не издав ни звука, положив одеяло на оба колена [4, с. 67]. Воспоминания Арыкова о детстве, его тоска по отцу, его мечта о том, чтобы отец оставил его в покое, письмо, которое он написал бабушке, его память о своем жалком состоянии на протяжении всей жизни - эти три воспоминания составляют три основных этапа романа. Они симметричны, сон, и его собственное облегчение от него, которое вне его характера (душа Арыкова отдыхала), каждое воспоминание дает разный эффект-урок читателю, т.е. призывает все человечество (бабушку и ребенка, отца и сына) вступить в брак, избегать вредных привычек (Мать, Алим и др.), жить достойно великого имени «Адам», призывает жить на правильном пути.
Произведение заканчивается до того, как началось, оно появляется до того, как создано. Каждая работа содержит множество историй, соответствующих образов, деталей и т.д. Общеизвестно, что это произойдет. Здесь следует отметить одну вещь. В этом случае порядка нет, начало и конец тоже не известны, трудно отличить, где начало, а где конец. На следующих стадиях начало может стать концом, или наоборот, концом может стать начало, даже иногда начало, иногда конец, иногда и то и другое может исчезнуть, и нет необходимости сортировать и отделять начало и конец. Потому что те многочисленные события (образы, детали и т. д.) выстраиваются в определенном порядке, и соответственно, сначала первое, потом второе, потом третье. Язык является средством реализации этих идей всякий раз, когда это необходимо для достижения идей. И одним из признаков сложности творческого мышления является разнообразие его средств [8, с. 3].
Из общего контекста романов «И дольше века длится день» и «Холодные стены» «против смерти и времени, которые никто не может преодолеть, человек может поставить только память; память или историческая память, даже если она есть, это не память, забывающая «плохое» и отбирающая только «хорошее». Можно сделать вывод о том, что только память, не отклоняющаяся от истины, объединяет прошлый, настоящий и будущий опыт человеческого общества и создает условия для гармоничного развития» [7, с. 32].
Список литературы Текущая речь - основное понятие грамматической категории времени (на материале кыргызского языка)
- Айтматов Ч. Сборник сочинений. Т. 4. Романы, рассказы. Бишкек: Бийиктик, 2008.
- Брусенская Л. А., Гаврилова Г. Ф., Малычева Н. Б. Учебный словарь лингвистических терминов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
- Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Высшая школа, 1981. 139 с.
- Жусубалиев К. Холодные стены: романы и рассказы. Бишкек: Литература, 1990.
- Омуралиева С. Лингвистический анализ произведений Ч. Айтматова. Бишкек, 1999.
- Волкова О. Н. Педагогическое речеведение: Словарь-справочник. М.: Флинта: Наука, 1998. 308 с.
- Усубалиев Б. Лингвистический подход к художественному произведению. Бишкек, 1994.