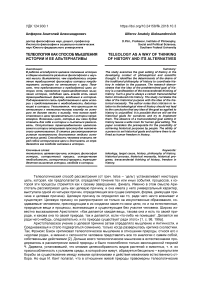Телеология как способ мышления истории и ее альтернативы
Автор: Алферов Анатолий Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2018 года.
Бесплатный доступ
В работе исследуется целевое полагание истории в общем контексте развития философской и научной мысли. Выявляется, чем определялось стремление традиционной философии истории координировать историю по отношению к цели. Показано, что представление о предзаданной цели истории есть проявление трансцендентного мышления истории, подобная цель всегда есть некий трансцендентный фактор, вводимый в историю. Подчеркивается связь представления о цели истории с представлением о необходимости, действующей в истории. Указывается, что критицизм по отношению к телеологическому взгляду на историю не должен вести к выводу, что всякое представление о цели применительно к истории неправомерно. Возможны цели, которые мы сами будем ставить для себя в истории и пытаться реализовать. Отсутствие трансцендентного целеполагания в истории открывает простор для человеческого целеполагания. В статье рассматриваются условия возможности достижения людьми исторических целей. Способность человека ставить перед собой исторические цели и достигать их определяется как свобода человека в истории.
Телеология, целевая причина, история, философия истории, исторический процесс, историческая необходимость, исторический прогресс, трансцендентное мышление истории, свобода в истории
Короткий адрес: https://sciup.org/149133676
IDR: 149133676 | УДК: 124:930.1 | DOI: 10.24158/fik.2018.10.3
Текст научной статьи Телеология как способ мышления истории и ее альтернативы
Телеологический способ рассмотрения (от греч. telos – ‘цель’) устанавливает некоторую цель, которая, как предполагается, определяет течение тех или иных событий, процессов, к которой эти процессы стремятся как к своему завершению, финалу. Именно в этом смысле Аристотель рассматривал цель как целевую причину, и она имела у него универсальный характер, выступала одной из четырех причин, определяющих все сущее (материя, форма, движущая причина и целевая причина). Целевую причину он определял как то, ради чего нечто возникает и существует. Целевую причину он распространял не только на искусственные образования, создаваемые человеком, преследующим в их создании какие-то свои цели, но и на естественные, природные вещи и процессы, возникающие и существующие без участия человека. Широко известно высказывание Аристотеля: «Как делается каждая вещь, такова она и есть по своей природе, и какова она по своей природе, так и делается, если что-либо не помешает. Делается же ради чего-нибудь, следовательно, и по природе существует ради этого» [1, с. 98, 199а].
Аристотелевское учение о целевой причине затем определяло мышление и Античности, и Средневековья и стало подвергаться сомнению, только когда развернулась критика схоластики. Так, Фрэнсис Бэкон критиковал телеологическое мышление в отношении природы, относя его к «идолам рода», а именно к склонности человека представлять все по аналогии с самим собой, собственными действиями [2]. Дольше всего телеологическое мышление в естествознании продержалось в рассмотрении живой природы и было поколеблено только эволюционной теорией Ч. Дарвина, установившей, что мнимая целесообразность видов растений и животных, т. е. их приспособленность к условиям среды, в которой они живут, образуется бесцельно – в результате борьбы за существование между живыми организмами и действия механизма естественного отбора. Но еще И. Кант полагал, что в отношении живой природы правомерны телеологические суждения, что на основе одной только действующей причины, без привлечения целевой причины, невозможно объяснить живой организм и органическое развитие [3].
Известно, что И. Кант считал необходимым введение целевой причины и для объяснения исторического развития. Он ставил задачу представить историю закономерной, подчинить ее закону (и тем самым сделать историческую науку настоящей наукой по образцу естественных наук), но это, по его мнению, можно осуществить, лишь координировав историю по отношению к некоторой цели и изобразив историческое развитие как закономерное восхождение к этой цели [4]. Этим способом, собственно, и пользовалась традиционная философия истории. Желание видеть мировую историю закономерной, устранить из истории случайность заставляло координировать историю по отношению к цели. В философии Просвещения целью истории оказывалось полное развитие и проявление разума в жизни людей; в фихтеанской философии - такое общественное состояние, в котором произойдет полное слияние индивида с родом; в гегелевской философии - осознание духом его свободы, которое находит выражение в определенном состоянии государства; в марксистской философии истории - коммунистическое общество. Что касается Канта, то у него целью истории оказывалось совершенное правовое состояние общества, которое распространится и на отношения между государствами. По мнению Канта, в истории реализуется «план природы», заключающийся в том, чтобы развить природные разумные задатки, заложенные природой в человеке. Даровав человеку разум в виде задатков, природа затем развивает их через историю [5].
Подчеркнем, что подобное определение мировой истории целью, к которой движется человечество, неизбежно сообщает истории трансцендентный характер. Подобная цель есть трансцендентный фактор, вводимый в историю, так как предполагается, что люди могут ничего не знать об этой цели и действовать из собственных побуждений, а вместе с тем они идут по направлению к ней, она осуществляется независимо от желаний и стремлений людей, но через их деятельность.
Трансцендентный характер имеет и предполагаемая необходимость мировой истории. Ведь история складывается из огромного множества отдельных действий множества отдельных людей и совокупный результат всей этой необозримой деятельности должен быть случайным и непредсказуемым. Но именно это казалось неприемлемым многим мыслителям, и они создавали такие концепции истории, которые позволяли нейтрализовать случайность и представить историю человечества как закономерный и восходящий процесс, а решить эту задачу можно было именно с помощью какого-либо трансцендентного фактора, который вводился в историю (Провидение, мировой разум, план природы, закон прогресса и т. п.).
Цель истории сообщает направленность историческому процессу. В европейской философии Нового времени использовалась также идея исторического прогресса. Прогресс мыслится как движение от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному и, таким образом, сам задает направление истории, помимо цели. Но он может сочетаться и с целью, которая в этом случае будет высшим, совершенным состоянием человечества, к которому ведет история, - вершиной прогресса. Такое сочетание целевого полагания истории с представлением о прогрессе и имело место в большинстве концепций традиционной философии истории. Основоположники марксизма отвергали представление о цели истории, они писали, что так называемая цель истории - это «абстракция от того активного влияния, которое оказывает предшествующая история на последующую» [6, с. 45]. Но марксистская философия осмысливает историю как прогрессивный процесс, в котором каждая следующая ступень развития (общественная формация) выше предыдущей, а вершиной прогресса в марксистской концепции истории оказывается коммунистическая общественная формация, так что получается, что мировая история с необходимостью движется к коммунистическому обществу как своему завершению.
В традиционной философии истории, таким образом, представление о цели истории неразрывно связано с представлениями о направленности исторического процесса и необходимости, действующей в истории. При этом подчинение истории и цели, и необходимости означало введение в нее некоего трансцендентного фактора.
Можно считать, что современная философия, в общем, отказалась от трансцендентного мышления истории и относительно цели истории был сделан тот же вывод, который значительно раньше был сделан относительно целей в природе, т. е. признано, что никакой предзаданной цели у истории нет. И. Кант хотел с помощью цели подчинить историю закону и сделать из нее науку, подобную естественным наукам. Но подобной естествознанию трансцендентная необходимость науку историю не делает, потому что эта необходимость имеет иную природу по сравнению с необходимостью, которой пользуется естествознание и вообще наука. Сближает с современным естествознанием историческую науку как раз отказ от целевой причины. К. Поппер, критикуя идею исторической необходимости, доказывал, что необходимость, устанавливаемую для истории, не следует воспринимать как обычный научный закон, что таковым она не является.
Он выражал убеждение, что ничего предопределенного в истории нет, что будущее вполне зависит от нас, от человеческой деятельности [7].
Еще один известный мыслитель ХХ в. И. Берлин считал представление об исторической необходимости не соответствующим человеческому опыту. Он также отмечал, что это представление лишает человека возможности выбора и, значит, отказывает человеку в свободе, потому что без выбора не может быть реальной свободы. Неприемлемым для И. Берлина было и то, что признание исторической необходимости оправдывает всю прошедшую историю, делает ее неуязвимой для критики, делает невозможным применение оценочных суждений в отношении истории [8]. Со своих позиций отвергает все представления традиционной философии истории, включая представление о цели истории, постмодернизм. Он объявляет их метафизичными, логоцентричными, метанарративными. (Но постмодернизм идет еще дальше и разрушает, отбрасывает самое историческое сознание, объявляя конец истории, с чем мы решительно не согласны.)
Если отказаться от идеи исторической необходимости, то это значит, что нужно в полной мере признать значение случая в истории. Устранение исторической необходимости означает также признание того, что ход истории мог быть иным, чем он был, что история определяется не одной возможностью, а многими и на каждом историческом переломе открывается веер возможностей, так что реализовавшийся путь развития человечества есть результат многочисленных постоянно совершавшихся выборов. Применительно к будущему отсутствие исторической необходимости означает, что будущее не определено и может быть различным.
Американский исследователь Д. Карр справедливо отмечает, что телеологический взгляд на историю ведет свое происхождение от религиозной традиции. Действительно, в христианской мысли история определяется Божественным провидением и ведет к определенной цели, к заранее известному финалу – Последнему суду, на котором произойдет отделение праведников от грешников, а смысл земной истории человечества состоит в искуплении людьми первородного греха, в испытании их способности сопротивляться злу, воли к добру. Именно такое понимание истории обосновывал в свое время святой Августин. В Новое время европейская мысль пошла по пути секуляризации и были разработаны нерелигиозные концепции истории, но на них был перенесен телеологический принцип построения. В статье «Историческая телеология: великая иллюзия», представляющей собой рецензию на книгу «Исторические телеологии в современном мире» (Лондон, 2015), Д. Карр пишет: «Загадка состоит в том, почему современные мыслители, которые ставят под вопрос или отвергают идею Божественного провидения, продолжают мыслить об истории в телеологических понятиях» [9, p. 307]. Полагаем, что наша статья проливает свет на эту загадку.
Если отказаться от представления о предзаданной цели истории, то значит ли это, что всякое представление о цели применительно к истории неправомерно? Не значит. Возможны цели, которые мы сами будем ставить для себя в истории и пытаться реализовать. Отсутствие трансцендентного целеполагания в истории открывает простор для человеческого целеполагания. То же самое может быть сказано и относительно направленности истории. Если нет какого-то заданного направления исторического процесса, значит, мы сами своей деятельностью можем попытаться задать желаемое направление истории. Однако условием возможности целенаправленной исторической деятельности людей является, конечно, их согласие относительно цели, которую они хотели бы достичь. До сих пор история вершилась таким образом, что люди стремились к различным несовпадающим целям, а из столкновения и пересечения их несовпадающих действий рождался исторический результат, которого подчас никто не ожидал. И поскольку люди, как правило, не достигали желаемого исторического результата, то это значит, что свободой в истории они не обладали.
Свобода человека в истории реализуется через его сознание, она предполагает сознательное историческое действование, сознательную постановку людьми определенной исторической цели и деятельность, направленную на ее реализацию. Но этого мало, человека можно считать обладающим свободой в истории, если он будет способен не только ставить исторические цели и стремиться к ним, но и реально достигать их.
В одиночку никакой человек не способен осуществить историческую цель. Ему нужно найти единомышленников и объединиться с ними. Но и деятельность сообщества людей, и даже целого народа, объединенного общностью цели, не гарантирует достижения цели, потому что эта деятельность может сталкиваться с деятельностью других сообществ людей, преследующих иные цели. В этом смысле наибольшую вероятность достижения цели давала бы целенаправленная деятельность всего человечества, если бы человечество объединилось для достижения определенной цели. Но и в этом случае не может быть уверенности в том, что цель будет достигнута – принятая цель может оказаться недостижимой в силу тех или иных причин. Уверенность в достижении цели может дать только признание соответствующей исторической необходимости. Если же мы исходим из предпосылки о возможности различных путей исторического развития, то должны принять и вывод, что не существует гарантии достижения исторической цели.
Ссылки:
-
1. Аристотель. Физика // Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 3. М., 1981. С. 59–262.
-
2. Бэкон Ф. Новый органон // Бэкон Ф. Сочинения : в 2 т. Т. 2. М., 1972. С. 5–222.
-
3. Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения : в 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 161–527.
-
4. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Там же. Т. 6. М., 1966. С. 5–23.
-
5. Там же.
-
6. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М., 1955. С. 7–544.
-
7. Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 8–10.
-
8. Берлин И. Историческая неизбежность // Берлин И. Подлинная цель познания. Избранные эссе. М., 2002. С. 162–260.
-
9. Carr D. Historical Teleology: The Grand Illusion // History and Theory. 2017. Vol. 56, no. 2. P. 307–317.
Список литературы Телеология как способ мышления истории и ее альтернативы
- Аристотель. Физика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 3. М., 1981. С. 59-262.
- Бэкон Ф. Новый органон // Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1972. С. 5-222.
- Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 161-527.
- Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 5-23.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М., 1955. С. 7-544.
- Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 8-10.
- Берлин И. Историческая неизбежность // Берлин И. Подлинная цель познания. Избранные эссе. М., 2002. С. 162-260.
- Carr D. Historical Teleology: The Grand Illusion // History and Theory. 2017. Vol. 56, no. 2. P. 307-317. DOI: 10.1111/hith.12020