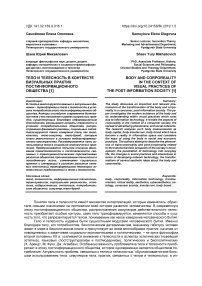Тело и телесность в контексте визуальных практик постинформационного общества
Автор: Самойлова Елена Олеговна, Шаев Юрий Михайлович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется важный и актуальный феномен - трансформации тела и телесности в условиях потребительского постинформационного общества. Авторы исследуют современное бытование тела и его понимание в рамках визуальных практик, существующих благодаря информационным технологиям, раскрывают аспекты телесности в условиях потребительского общества, распространения феноменов рекламы, социальных сетей. Анализируются такие измерения тела, как тело-капитал, тело-симулякр, тело-бренд, которые стали реальностью в условиях медиаинформационного пространства. Рассматриваются пути использования тела в социально-экономических практиках. Предпринимается попытка описания феноменов транстелесности и посттелесности, связанных с трансгуманистическими перспективами развития общества, проникновением технологий в повседневную жизнь, изменениями социальных практик и интеракций в условиях развития сетевых технологий, трансформациями некоторых эстетических представлений о теле и телесности.
Тело, телесность, информационные технологии, трансгуманизм, виртуальная реальность, эстетика, киберэстетика, онтология, потребительское общество, симулякр, тело-бренд
Короткий адрес: https://sciup.org/149133832
IDR: 149133832 | УДК: 141.32:159.9.016.1 | DOI: 10.24158/fik.2019.1.5
Текст научной статьи Тело и телесность в контексте визуальных практик постинформационного общества
Понятия тела и телесности имеют множество интерпретаций, которые изменялись, обрастали новыми значениями на протяжении всей истории развития человечества. В современную эпоху постинформационного общества, распространения симулякров действительности телесность приобретает особые контуры, само тело трансформируется, изменяются способы и сущность того, что репрезентируется телом, понимаемым как некое измерение человеческого бытия.
Тело и телесность издавна были сущностными модусами человеческого бытия. Именно благодаря телу, его потребностям, биологическим детерминантам, внешнему габитусу человек живет в мире в биологическом плане и присутствует во всем многообразии практик, начиная от повседневных и заканчивая социально-экономическими и политическими, – не зря в философии второй половины ХХ в. усиливается внимание к телесности в аспектах эстетических (новейшая эстетика), языковых (постструктурализм и постмодернизм), политических и биополитических (Х. Арендт, М. Фуко, Дж. Агамбен). Особенную важность проблематика тела и телесности приобретает в эпоху постинформационного общества, которое одновременно является обществом потребления. Актуальность проблем, связанных с телом и телесностью, обусловливается все большим использованием тела, симулякров тела, практик, связанных с телом и телесностью, в ин- формационно-знаковом пространстве потребительского общества в опыте рекламы, информационно-идеологических конструктах. Это особенно актуально в связи с виртуализацией многих повседневных действий и процедур, трансформацией телесности и топосов телесности в современном культурно-информационном пространстве.
Известный отечественный философ В.М. Розин определяет телесность как «новообразование, конституированное поведением, то, без чего это поведение не могло бы состояться, это реализация определенной культурной и семиотической схемы (концепта), наконец, это именно телесность, т. е. модус тела» [2].
Можно сказать, что во все эпохи тело выступало не только в качестве физической оболочки, но и как инструмент социализации, инструмент познания мира и как природно-культурный феномен. Именно как последний трактует телесность С.В. Оболкина в своих трудах. Она пишет: «Это природно-культурный феномен, который формируется исходя из того, как человек воспринимает физическую сторону своего существования и как ее контролирует; как относится к своему телу, как им владеет и каким желает его видеть среди других тел» [3, c. 49].
Традиционно в европейском философском, религиозном и обыденном понимании сущности человека присутствовал дуализм души и тела, внешнего и внутреннего, содержа в себе экспликации систем мысли древних и средневековых философов, испытавших влияние платонизма, аристотелизма и христианских опытов мышления.
В современном же обществе потребления, которое является еще и обществом постинформационным, обществом потоков информации и информационных технологий, преобразующих человеческое бытие, тело и телесность занимают значимые позиции, являясь чуть ли не единственными репрезентаторами человеческой сущности (в связи с отходом духовных детерминант на второй план).
Анализируя феномены тела и телесности, Ж. Бодрийяр говорит о них как «о прекрасном продукте потребления» и предлагает выделить четыре модели тела [4, c. 167–168]. К первой модели тела можно отнести труп как идеальный случай тела для медицины. Несмотря на то что цель медицины – это сохранение и продление жизни, труп является результатом ее деятельности. Однако в эру информационного-потребительского общества, особенно в контексте трансгуманизма, можно говорить о том, что не столько труп становится конечным результатом, сколько биомодифициро-ванное тело. Это связано с бегством от природной телесности в стремлении усовершенствовать тело, довести его до идеала (в том числе и кибернетического). Например, уже сейчас доступны печать органов и протезов на 3D-принтерах, создание различного рода имплантов и т. д. [5].
Ж. Бодрийяр, рассуждая о теле, отмечал, что в информационно-потребительском обществе тело выходит на первый план, создается культ тела в противоположность традиционным европейским разделениям на тело и душу. Однако мы живем в мире симулякров, и тело тоже превращается в подобие самого себя, что заметно в рекламе, культивирующей вечную молодость, привлекательность и безупречный вид, т. е. те качества тела, которые сложно найти в реальности в чистом виде. Тело гиперреализируется, становится «улучшенной копией» самого себя. Последнее отчетливо видно на примерах массового распространения визуальных практик, соотносимых с фотографической деятельностью и кино, где посредством различных программ и визуальных эффектов удается добиться привлекательности фото- и видеоизображения [6, c. 183].
Помимо этого, в концепции Ж. Бодрийяра феномен тела проецируется на систему политической экономии. В данной системе тело понимается автором как робот («освобождение» тела как рабочей силы) и как манекен (своего рода знак и как знаковая ценность), показывается еще большее отчуждение.
Сегодня, в эпоху развития информационных технологий и техники, отношение к телу является диалектическим. С одной стороны, тело выступает в качестве копии самого себя, знака, который обращается на рынке визуальных образов, – не зря рекламная индустрия активно эксплуатирует образ-знак красивого молодого тела как репрезентатора стремления к вечной молодости, наслаждению материальными благами. С другой стороны, тело превращается в объект заботы о его исправном функционировании – с появлением «умных» браслетов, отслеживающих состояние здоровья, различных приложений, феномена биохакинга – своего рода сверхзаботы о себе, – человек принимает биодобавки в больших количествах для профилактики заболеваний, проходит множество тестов для определения проблемных зон организма, всеми доступными методами пытается добиться продления жизни, ее качества, сохранения здоровья. Тело не выступает уже только в виде знака и внешнего репрезентатора, а являет собой пример некой машине-рии в плане исправного и долгосрочного функционирования – по аналогии с образом технологи-чески-информационного будущего, в котором большую роль играет идея функциональности, разумного взаимодействия технических средств. Особенно это заметно в феномене «интернета вещей», где «умные» вещи обмениваются информацией для поддержания своего функционирования без участия человека.
Телесность в эпоху информационного потребительского общества представляет собой своего рода выход «тела» в сферу социальных практик. Под влиянием рекламы и PR сформировался так называемый культ тела. Красивые тела девушек и молодых людей используются в рекламе, в кино и на телевидении, тем самым формируя сознание рядового потребителя, подталкивая к тому, чтобы и он сам соответствовал данным образам. В связи с этим особую популярность приобретают спортивные залы, фитнес-центры, в которых люди в первую очередь стремятся сделать свое тело красивым – как в рекламе – и только во вторую укрепить свое здоровье. Здесь мы видим модель, описанную Ж. Бодрийяром, она продолжает функционировать в современном обществе, и во многом на ней строится экономическая система. Такое понимание телесности и телесного идеала для многих становится ориентиром повседневных практик «заботы о себе» как попыток создать красивое и привлекательное тело. Особенно это касается сравнительно молодых людей, активно пользующихся информационными, сетевыми технологиями. Так, некоторые социальные сети, столь популярные в современном мире, что их можно рассматривать в качестве основных медиатопосов обитания современного человека в информационном пространстве, предполагают в качестве основного контента фотоизображение. Основным примером здесь может служить социальная сеть «Инстаграм», в рамках которой фото является главным репрезентатором человека и событий, происходящих с ним. Здесь будут справедливыми слова Ж. Бодрийяра о теле как гиперреализирован-ном образе, сверхреальном симулякре – именно качество фотографий (под которым часто понимается изображение с большим количеством слоев, эффектов, созданных в фоторедакторе) играет ключевую роль, причем не важно реальное соответствие внешности человека и фотографии. Впрочем, сказанное касается и того, что окружает человека. Стали анекдотичными истории о сдаче в аренду дорогих автомобилей и даже фирменных упаковок товаров известных брендов, предназначенных для создания фотоизображений неких мини-нарративов, репрезентирующих человека в обстоятельствах показного потребления, пользования дорогостоящими вещами, «соответствующими» красоте тела и интенциям, связанным с обеспеченным образом жизни, поддерживающим этот гиперреалистический образ красоты.
Забота о внешнем измерении тела выражается в занятиях фитнесом и бодибилдингом (сейчас существует множество видов фитнеса). «Типичным артефактом эры машин является штампованный шедевр под названием “качок”, занимающийся body-building’ом, body-sculpting’ом. В спортивном зале посетители проходят через “конвейер” тренажеров, каждый из которых тренирует различную группу мышц. Тело воспринимается как процесс сборки: бицепсы и трицепсы, приобретая рельефную поверхность, напоминают продукцию штамповочного пресса», – отмечает О.А. Штайн [7, c. 100].
Наряду с культом тела в социуме возникают и противоположные ему феномены, например феномен бодипозитива, который направлен на то, чтобы человек полюбил свое тело таким, какое оно есть, и не гнался за рекламными стандартами. «Понимая, что культ тела сформировался под влиянием общества потребления и средств массовой информации, это движение пытается бороться с уничтожающей, по их мнению, силой косметических средств, различных спорткомплексов, размерной сеткой в магазинах и просто с общественным мнением. Это феномен возник как реакция на установившиеся каноны красоты и является революционным движением» [8, с. 53]. Распространяются образы фотомоделей и Инстаграм-блогеров, занимающих нишу, условно говоря, plus size, – это люди с избыточным весом либо особенностями телесного строения, которые не только не стесняются своего внешнего вида, но и считают его одним из проявлений своеобразной красоты (которая, по их мнению, достаточно многообразна и не может ограничиваться раз и навсегда заданными рамками).
Здесь можно вспомнить о двух ипостасях тела, представленных у Ж. Бодрийяра: тело как фетиш и тело как капитал [9, c. 163–197]. Тело выступает в обеих ипостасях, так как представляет собой и объект потребления (рекламные ролики, глянцевые журналы, реклама в сети Интернет и т. д.), и капитал. Последний требует определенных инвестиций, как денежных, так и временных (походы в фитнес-центры, различные медицинские процедуры). Как и любой другой капитал, рано или поздно тело человека начинает приносить прибыль. Зачастую это связывают со своего рода продажей физического тела, например работа моделей на подиуме. Красивое тело (даже отредактированное программами) в Сети может приносить доход его владельцам. Ярким примером является известная интернет-платформа Patreon, предназначенная для поиска финансовой поддержки. Данный сайт создан для поддержки артистов, музыкантов, художников, людей всех творческих профессий. Большую долю его контента составляют фотографии, и эротические в том числе. Многие молодые люди, выкладывающие свой контент, не столько заботятся о состоянии своего биологического тела (хотя, безусловно, есть и те, кто уделяет ему первостепенное внимание), так как его дефекты могут быть исправлены в редакторах, сколько стараются привлечь к своему телу-симулякру максимальное внимание. Тело-симулякр, прошедшее не одну постобработку, становится объектом вожделения и эротических фантазий и, как следствие, начинает приносить доход его владельцу.
Интересная идея была выдвинута Э. Кимбреллом и развита отечественным ученым О.А. Штайн. «Тело исчезает, становится субстанцией. С одной стороны, наблюдается культивирование здорового образа жизни (bodybuilding, фитнес- и йога-практики). С другой стороны, расчленение тела», – пишет О.А. Штайн [10, c. 101–102]. Под «расчленением тела» Э. Кимбрелл и О.А. Штайн понимают активизацию торговли «частями человека», которые раньше считались сокровенными и даже сакральными: кровь, сперма, яйцеклетки, внутренние органы. Появляется так называемый рынок человеческого тела, где тело уже не представлено как нечто целостное, а скорее является набором биокомпонентов. Т. е. практически все измерения телесности могут рассматриваться в аспекте своей трансформируемости в капитал, начиная от образа и внешней красоты и заканчивая материальными и физиологическими компонентами [11].
Помимо этого, тело в обществе потребления, в постинформационном обществе может не только представлять собой идеальную форму, оболочку, но и являться своего рода телом-брендом. На этот факт не все исследователи обращают внимание, ограничиваясь рассмотрением образов тела, представленных в примерах рекламы. Надевая брендовую одежду, человек тем самым противопоставляет себя большинству людей, показывает свой достаток, отражает, что именно он достоин выделиться из серой массы. Таким образом происходит идентификация индивида с определенной социальной группой, например с элитой (дорогая одежда и электроника, определенный образ жизни и т. д.), представителями модной молодежи. «Наше тело всегда представляет собой своеобразную “социальную структуру”, являясь отражением различных социальных тенденций, которые воздействуют на то, как мы относимся к своему телу, как мы его используем» [12, c. 73]. Тело тем самым находится в зависимости от социума, трансформирует его в русле новых социальных, культурных явлений.
Кроме того, сам внешний вид тела может быть своего рода брендом. Например, многие молодые девушки стремятся к обладанию формами американской актрисы и модели Ким Кардашьян, которая во многом стала известной благодаря фигуре с широкими бедрами, полными губами и яркому макияжу. Такой образ стал достаточно узнаваемым, и многие пользователи социальных сетей стараются воспроизвести его. Еще одним телом-брендом является образ крепкого бодибилдера с сильно гипертрофированными мышцами. В качестве примера можно привести культовый образ Арнольда Шварценеггера – кумира спортсменов «золотой эры бодибилдинга» (1980-е гг.).
Можно выделить такой вид телесности, как транстелесность. Стоит оговорить, что данный термин введен нами в связи с нарастанием феноменов отчуждения и эскапизма применительно к телу в информационной среде. С каждым годом количество социальных интеракций сокращается и сводится лишь к их симуляции посредством социальных сетей, электронных приложений и т. д. Онлайн-банкинг позволяет производить большинство операций, не выходя из дома, благодаря смартфонам. Приложения по доставке еды также сводят к нулю социальное общение по приему, обработке и доставке товара. Онлайн-шопинг стал заменой реальному выходу «в свет». Постепенное снижение социальных взаимодействий, в которых бы участвовало человеческое тело во взаимодействии с другими телами, в дальнейшем развитии общества может привести к тому, что человек полностью замкнется в информационном мире, а «живые» контакты станут для него излишними (если не касаться сферы интимных отношений, хотя и в рамках нее тоже возможны изменения). На данном этапе следует говорить об утрате человеком физической телесности при контакте с миром. Человек становится симулякром: фотографией на аватарке, стикером в социальных сетях. Свои эмоции, желания, мысли он демонстрирует посредством печатного (текстового) или графического сообщения. Интересно отметить, что отсутствие повышенного интереса к внешнему виду мы можем наблюдать у известных представителей сферы информационных и сетевых технологий. Так, известно, например, что Стив Джобс – основатель и идейный лидер компании Apple был аскетичен в отношении одежды и внешнего вида и практически все последние годы жизни носил черную водолазку и джинсы. Марк Цукерберг – основатель компании Facebook также аскетичен: он практически всегда ограничивается серой футболкой и джинсами.
Транстелесность является переходным этапом на пути к посттелестности, эра которой, как отмечают представители трансгуманизма, будет достигнута вместе с точкой сингулярности в 2030 г. [13, с. 6]. Под точкой сингулярности представители данного направления понимают единство человека и технологий во многих аспектах и сферах, в том числе и в телесном отношении – в аспекте усовершенствования тела с помощью технических средств, развития и улучшения телесных характеристик с помощью продвинутых методик диагностики, использования различных имплантов, информационных технологий.
На данном этапе развития телесности стоит говорить уже не столько о человеко-машинном взаимодействии, сколько о взаимодействии «машина – машина». Как писал еще Э. Тоффлер, который отчасти предсказал развитие техногенного мира и машин, имплантаты и миниатюрные компьютеры «будут имплантироваться в наши тела не только для того, чтобы компенсировать физические недостатки, но и для того, чтобы увеличить возможности человека. Граница между человеком и компьютером в какой-то момент окончательно сотрется» [14, c. 211].
Идеи Тоффлера поддерживает и современный ученый Д. Ченнелл. В своих исследованиях он отмечает, что связь человека и машины постепенно увеличивается и вскоре уже будет сложно сказать, где заканчивается человек и начинается машина. Грань между механикой и органикой постепенно исчезает. Как пишет автор, «поскольку каждое из этих механических устройств могло стать функциональной частью всего организма, становится все труднее определить внедренный в тело объект как чисто человеческий или чисто механический» [15, c. 314].
Развитие человеко-машинного и машинно-машинного взаимодействия важно в концепции трансгуманистов. Если в гуманистическом подходе человек улучшает окружающий его мир через культуру, социум, политику и другие сферы его бытия, то для трансгуманистов на первый план выходит вопрос о том, кем же станет человек, если произойдет его полная или частичная интеграция с машиной [16, c. 150].
В данном аспекте представления о теле и телесности могут существенным образом измениться. В частности, представления о теле-образе, теле-капитале могут трансформироваться. Возможно, отойдут на второй план образы красивого спортивного тела и будет иметь значимость только лишь функциональность тела. Не вполне понятно, как трансформируется концепт тела-капитала и будет ли дальше тело приносить доход с использованием визуальных практик.
Итак, в рамках постинформационного общества тело может выступать не только в качестве образа-симулякра, капитала и объекта заботы о его функционировании, но и в виде бренда. Образ тела, понимаемого и репрезентируемого в качестве бренда, отражает конвертируемость объектов действительности в знаки, циркулирующие в рамках постинформационного общества. Именно с этим отчасти и связаны тенденции вытеснения самого тела из области социальных интеракций в рамках повседневных практик. Тело-образ, тело-бренд остается на горизонте информационного пространства как рекламный образ, желаемый, но недосягаемый.
Как нам представляется, возможно формирование нового образа тела в постчеловеческом будущем. Оно будет сочетать принципы постинформационного общества, эстетические нормы и практику усовершенствования тела. Вполне возможно формирование новой киберэстетики тела – гармоничного сочетания технологических усовершенствований и параметров красоты, существующих в наши дни. Даже сейчас существуют примеры киберэстетики – цифровые рисунки и арты, выполненные в стиле киберпанк и демонстрирующие женщин и мужчин – полукиборгов. Вполне возможно формирование нескольких эстетических моделей-образов, имеющих симуляционные характеристики, например киборг – роковая/модная женщина, киборг-спортсмен/спортс-менка и т. п. Это то, что касается внешнего вида. Что касается интеракций, то, возможно, сами телесные практики будут исчезать из пространства социальной интеракции – даже сейчас можно обеспечить себя всем необходимым, оплатить счета, не выходя из дома, используя информационные технологии. Возможно, технологии виртуальной реальности будут способствовать уменьшению контактов людей друг с другом в реальном мире, а в мире виртуальном можно будет конструировать свою индивидуальность и телесность как ее выражение, опираясь на несколько неких паттернов внешнего или «псевдовнешнего» мира, продолжающих свое существование из потребительского общества.
Ссылки и примечания:
-
1. Работа выполнена в рамках Гранта Президента РФ. Проект МК-6507.2018.6 «Интернет вещей в контексте трансгуманизма: анализ онтологических оснований».
-
2. Розин В.М. Как можно помыслить тело человека, или На пороге антропологической революции [Электронный ресурс]. URL: http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/01/s66_telo.pdf (дата обращения: 20.12.2018).
-
3. Оболкина С.В. Техногенная цивилизация и телесность человека // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2011. № 11. С. 48–63.
-
4. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. 269 с.
-
5. Богаченко В.В. Трансгуманизм как форма эскапизма человека в контексте киберкультуры // Труды БГТУ. Серия 6: История, философия. 2017. № 1 (107). С. 98–102.
-
6. Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 183.
-
7. Штайн О.А. Трансформация телесности в современном мире // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2010. № 1. С. 99–102.
-
8. Климова Е.А. История тела и телесности // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки : электрон. сб. ст. по материалам XXXVIII междунар. студенч. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2016. № 1 (38). С. 48–53. URL: http://sibac.info/archive/guman/1(38).pdf (дата обращения: 20.12.2018).
-
9. Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 163–197.
-
10. Штайн О.А. Указ. соч. С. 101–102.
-
11. Kimbrell A. Body Wars. Can the Human Spirit Survive the Age of Technology // Utne Reader. 1992. No. 51. May – June. P. 60.
-
12. Корецкая Л.Ф. Телесность человека как объект социогуманитарного познания // Известия Байкальского государственного университета. 2006. № 1. С. 69–74.
-
13. Турчин А.В. Структура глобальной катастрофы. Риски вымирания человечества в XXI в. М., 2011. 432 с.
-
14. Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2004. 486 с.
-
15. Цит. по: Дери М. Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков. М. ; Екатеринбург, 2008. 478 с.
-
16. Философия и методология науки / Ч.С. Кирвель [и др.] ; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск, 2012. 639 с.
Список литературы Тело и телесность в контексте визуальных практик постинформационного общества
- Розин В.М. Как можно помыслить тело человека, или На пороге антропологической революции [Электронный ресурс]. URL: http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/01/s66_telo.pdf (дата обращения: 20.12.2018).
- Оболкина С.В. Техногенная цивилизация и телесность человека // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2011. № 11. С. 48-63.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. 269 с.
- Богаченко В.В. Трансгуманизм как форма эскапизма человека в контексте киберкультуры // Труды БГТУ. Серия 6: История, философия. 2017. № 1 (107). С. 98-102.
- Штайн О.А. Трансформация телесности в современном мире // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2010. № 1. С. 99-102.
- Климова Е.А. История тела и телесности // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: электрон. сб. ст. по материалам XXXVIII междунар. студенч. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2016. № 1 (38). С. 48-53. URL: http://sibac.info/archive/guman/1(38).pdf (дата обращения: 20.12.2018).
- Kimbrell A. Body Wars. Can the Human Spirit Survive the Age of Technology // Utne Reader. 1992. No. 51. May - June. P. 60.
- Корецкая Л.Ф. Телесность человека как объект социогуманитарного познания // Известия Байкальского государственного университета. 2006. № 1. С. 69-74.
- Турчин А.В. Структура глобальной катастрофы. Риски вымирания человечества в XXI в. М., 2011. 432 с.
- Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2004. 486 с.
- Дери М. Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков. М.; Екатеринбург, 2008. 478 с.
- Философия и методология науки / Ч.С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск, 2012. 639 с.