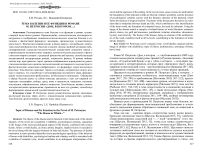Тема болезни и ее функция в романе М. Петросян «Дом, в котором...»
Автор: Рогова Евгения Николаевна, Яницкий Леонид Сергевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается тема болезни и ее функция в рамках художественной целостности романа. Правдоподобие, психологическая достоверность, натурализм в изображении социально-психологических аспектов болезни в сочетании с фантастикой формирует двоемирие, ироническую художественную целостность. Фантастика неявная входит в роман наряду с волшебными элементами сказочной фантастики. Наличие в каждом эпизоде двойной мотивации (объективированной социально-психологической конкретикой поведения героев с ограниченными возможностями здоровья, психологическим реализмом и фантастическим миром) связано с традицией романтической иронии, способствующей неоднозначной интерпретации романа, открытости финала. В романе амбивалентны мир, пространство, герои; границы изображаемых миров размыты, реалистическая конкретика и наличие психологической достоверности сосуществуют с фантастическими элементами изображаемого, что формирует черты магического реализма. Тема болезни помещает героев в ситуацию, пограничную между жизнью и смертью, что способствует интенсификации внутреннего мира, формированию экзистенциальной проблематики, необходимости инициации. Обращение к образу болезни влечет за собою комплекс связанных с нею тем мировой литературы: метаморфоз, выбора, греха, вины и невинности, наказания, изоляции, отчуждения, избранничества, тайны и творчества. Тема болезни, являясь элементом архитектоники произведения, проявляется на всех его уровнях, способствуя формированию иронической художественной целостности.
М. петросян, роман, романтическая ирония, двоемирие, магический реализм, образ детей с ограниченными возможностями здоровья, тема болезни, архитектоника, архетип дома, чаши, тела
Короткий адрес: https://sciup.org/149127473
IDR: 149127473 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00104
Текст научной статьи Тема болезни и ее функция в романе М. Петросян «Дом, в котором...»
Роман M. Петросян «Дом, в котором...», опубликованный в 2009 году, отмечен целым рядом литературных премий («Русская премия», «Большая книга», «Студенческий Букер» и др.). «Дом, в котором...» популярен среди критиков и литературоведов, которые сразу определили тексту нишу, закрепив за ним ведущий стиль - магический реализм [Биякаева 2017, 60], одновременно отмечая его многоплановость с точки зрения традиций.
Предметом исследования в романе М. Петросян «Дом, в котором...» становятся стилистические особенности, экзистенциальные темы [Баи-шева 2017, 291-294] и проблематика [Истомина 2018, 207-212], архетипы [Воронкова 2017, 301-308], смысловые уровни, коллективное и индивидуальное в сознании разных нарраторов [Мельник 2013], тема детства [Рыбалко 2017, 73 8-743] и тема подростковости и вхождения человека в чуждый мир [Лебедушкина 2011, 20], а также визуальные образы [Ове-рина 2016, 49-50], литературные традиции, связанные с изображением необычных интернатов [Соловьева 2011, 169-180], двойная мотивировка действия (реалистическая и фантастическая [Мельник 2013]).
Важную роль в произведении М. Петросян играет тема болезни, необходимая для формирования экзистенциальной проблематики и эстетического оцельнения романа. Обратимся к названной теме, ее символике и функции в романе М. Петросян.
Тема для нас - «краткая запись соответствия между всеми разнообразными элементами текста» [Щеглов, Жолковский 2013, 53], «наиболее общая формулировка смысловой или <...> иной “доминанты” этого текста» [Щеглов, Жолковский 2013, 55], «тема есть запись семантического инварианта составляющих текста, взятого в готовом виде» [Щеглов, Жолковский 2013, 62]. Вслед за А.К. Жолковским и Ю.К. Щегловым «конститутивным свойством темы мы считаем ее способность служить исходной формулой для преобразований, дающих в конечном счете художественный текст» [Щеглов, Жолковский 2013, 53]. Таким образом, различные элементы поэтики и приемы выразительности, рассматриваемые в статье, для

нас - «способы варьирования темы», а тема - «тот инвариант, вариациями которого является все в произведении» [Щеглов, Жолковский 2013, 56]. «Тематическое единство», «тематическая действительность» как «аспект произведения обладает своей упорядоченностью (архитектоникой)» [Та-марченко 2008, 263], соответственно, проявляется в организации его частей, элементов поэтики.
Тема болезни связана с неизбежностью перемен, целым рядом изменений человека и, в конечном итоге, с важнейшими метаморфозами, происходящими в момент смерти. Неотвратимость смерти диктует человеку необходимость решения вечного вопроса о смысле собственного бытия, что требует мужества и индивидуальных поисков ответа. Тема болезни позволяет создать художественную реальность с широким масштабом обобщения, актуализирующуюся любым читателем, так как, как пишет С. Сонтаг: «Болезнь - сумеречная сторона жизни, тягостное гражданство. Каждый из родившихся имеет два паспорта - в царстве здоровых и царстве больных. Пусть мы и предпочитаем использовать первый, но рано или поздно каждый из нас, хоть на недолгий срок, вынужден причислить себя к гражданам этой другой страны» [Сонтаг 2016, 13]. С. Сонтаг в своем эссе «Болезнь как метафора» призывает к честному и здоровому подходу к болезни, отказываясь от метафорического мышления, при этом замечая, что это вряд ли возможно - «поселиться в царстве больных, не отягощая себя грозно пылающими метафорами, что образуют его ландшафт» [Сонтаг 2016, 13]. Мы обращаемся именно к метафорическим и символическим смыслам темы болезни в романе М. Петросян «Дом, в котором...», вызванным неизбывным страхом человека перед заболеванием, открытостью бездне, за которой маячит смерть. Тема болезни способствует актуализации экзистенциальной проблематики, типизации изображаемого, синтезированию коннотаций, связанных в романе М. Петросян с ситуацией пограничности, темами греха, вины и невинности, наказания, изоляции, отчуждения.
Тема болезни, рассматриваемая нами в данном контексте как инвариантная теме метаморфоз, имплицитно представлена в названии произведения «Дом, в котором...», создающим аллюзию на стихотворение С .Я. Маршака «Дом, который построил Джек» (перевод британского фольклорного текста «This Is the House That Jack Built»). Аллюзия на шуточное детское фольклорное произведение с кумулятивным сюжетом и стилистикой нонсенса придает названию романа М. Петросян игровой и одновременно неоднозначный характер звучания (ироничность последующего текста, в котором есть место для трагического и комического), отсылает к детской тематике и указывает на наличие возможного перечисления того, что находится в пространстве дома в духе абсурдной, потешной логики, «бессмыслицы». В фольклорном тексте присутствуют и мотивы несчастья, «несовершенства» героев, связанные с символикой жизни и смерти, пародийной, те. архаической амбивалентной семантикой. Нижеприведенные строки не вошли в известный переводной текст С .Я. Маршака:
This is the man all tattered and torn That kissed the maiden all forlorn. Это человек весь изодранный и порванный Который поцеловал несчастную деву [Стихи Матушки Гусыни 2003, 79].
Кумулятивный сюжет данного фольклорного текста отражает особенности примитивного мышления: «<...> когда еще не существовало качественных характеристик мира. Поэтому обряд, утверждающий изменение героя мифа, качественное его преображение (которое впоследствии отразится в процессе инициации, в цикличности смерти и жизни), первоначально выполнялся путем количественного накопления» [Русанова 2006, 120], - пишет О.Н. Русанова. Аллюзия на фольклорный текст с кумулятивным сюжетом в заглавии романа М. Петросян, таким образом, обнаруживает связь с архаическим мышлением фольклорного претекста, пограничным положением между жизнью и смертью проходящего обряд инициации (метаморфоз), цикличностью как основой древнего мировосприятия. Как отмечает В.Я. Пропп: «<.. .> чисто кумулятивная сказка-песня входит в состав еврейской агады <...> Здесь кошка съедает козленка, собака кусает кошку, палка бьет собаку, огонь сжигает палку, вода заливает огонь и т.д. до господа бога» [Пропп 2000, 349]. В классической художественности кумулятивный сюжет отражает веру в надличностный порядок, постигаемый в «бесконечной причинной цепи», а в неклассической парадигме (в романе М. Петросян) «сюжетная структура, основанная на принципе кумуляции, <.. .> становится способом рецепции средств и приемов построения нарративов и актуализирует установку на совместное переживание события» [Федоров]. Игровой характер звучания заглавия романа дает понять читателю, что перед ним текст-игра с традициями, аллюзиями, текст о создании текста, символизирующего вечный и нестрашный бесконечный сюжет о всякой всячине, создании мира.
Произведение М. Петросян содержит тему болезни, традиционно в мировой литературе выполняющую функцию противопоставления героя миру, помещающую его на грани между жизнью и смертью, пробуждающую его самосознание, что само по себе обладает эстетической значимостью, отвечая внутрилитературной традиции. Тема болезни присутствует уже в древнейшей из известных поэм «О все видавшем» или «Эпосе о Гильгамеше». Недуг в поэме связан с проклятием, смертью и всеобщим уделом людей, пробуждает осознание собственной смертности у Гильгамеша, стремление героя отправиться на поиски бессмертия. Преисполненный горя от утраты друга и страха перед неизбежностью собственной смерти, Гильгамеш уподобляется безумцу, отправляется через реку мертвых в мир Вечности. Тема недуга сопрягается в древнейшей эпической поэме с темами бунта, желания достичь невозможного, победить смерть, принести людям бессмертие и, в конце концов, смирения с судьбой человека. В Книге Иова Ветхого Завета Библии тема болезни связана с без-
винным страданием, испытанием веры и Божьим промыслом. В мировой литературе болезнь делает героя непохожим на окружающих, избранным, открытым метаморфозам сознания, сталкивает с необходимостью экзистенциального выбора, открывает знание, недоступное обычным людям. Болезнь является важной характеристикой героя, позволяет изобразить специфику его взаимоотношений с окружающим миром. Отдельно здесь стоит упомянуть тему болезни-безумия, функциями которой является выделение героя в системе персонажей; формирование внутреннего, внешнего конфликта в художественном мире произведения. В античной литературе тема безумия сопряжена с темой страдания, способствующей формированию трагического пафоса, очищению посредством катарсиса («Царь Эдип» Софокла, «Медея» Еврипида и т.д.). Тема болезни-безумия присутствует на разных этапах литературного развития и способствует соответственно созданию разных типов художественной целостности, неизменно выделяя героя и порождая конфликт. «Гамлет», «Король Лир» и «Макбет» У. Шекспира, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» М. де Сервантеса Сааведра, «Мальчик-идиот» У. Вордсворта, «Сказание о старом мореходе» С.Т. Кольриджа, «Песочный человек» Э.Т.А. Гофмана, «Идиот» и «Двойник» Ф.М. Достоевского, «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, «Палата № б» А.П. Чехова, «Тошнота» Ж.П. Сартра, «Смерть в Венеции» Т. Манна, «Полет над гнездом кукушки» К. Кизи, «Школа для дураков» С. Соколова и т.п., - произведения, содержащие темы болезни, метаморфоз, смерти, смысла жизни, трагичности бытия, двоемирия, - комплекс экзистенциальных тем, связанных с отклонением от определенной нормы, трактующихся обыденным сознанием как безумие. Тема безумия эстетизируется романтизмом, безумие противопоставляется филистерскому, нетворческому, обывательскому мышлению, становясь в дальнейшем одной из центральных тем современной культуры. Тема болезни влечет за собою, в свою очередь, темы тайны, страха, одиночества, отчуждения, изоляции и творчества, характерных для романа М. Петросян, в котором так важны романтические традиции.
Романтическая традиция проявляется в выделенности героев из мира здоровых и обычных людей болезнью, порождающей сверхкачества, поэтический дар, сверхчувствительность или безумие, позволяющие приподняться над реальностью. Один из персонажей романа отмечает необходимость отклонения от нормы и здравого смысла для пребывающих в Доме: «Может, это так и нужно здесь, быть слегка помешанным? Может, без этого здесь просто нельзя быть?» [Петросян 2012, II, 13]. Мифологизация болезни, связанная со сверхспособностями героев, видящих чужие сны, чующих «смерть сквозь стены» [Петросян 2012, II, 35], запах мыслей, для которых «общение с призраками <...> в порядке вещей» [Петросян 2012, I, 206]), сочетается в романе М. Петросян с реалиями истории болезни: «<...> одна красная полоска означает, что ты асоциален и неуправляем, две - что ты склонен к суициду и нуждаешься в усиленном контроле психотерапевтов, три - что страдаешь неизлечимым психическим расстрой- ством <...>» [Петросян 2012, I, 242-243]. Романтическая двойственность героев раскрывается в амбивалентности их образов, например, о Рыжем: «<...> Рыжий надевает очки, и ангел исчезает. Остается неврастеник и извращенец» [Петросян 2012, II, 162].
В романе М. Петросян дом, в котором живут дети-инвалиды, связан с архетипом корабля, форма которого напоминает крышу дома [Керлот 1994, 259]. Сюжет о движении корабля в мир теней в поиске сакрального слова, спасающего от смерти, связан с архетипом солнца, вариацией мифа о солнечном герое [Юнг 1994, ПО]. По мнению О.М. Фрейденберг, корабль является и средством передвижения бога, и самим божеством [Фрейденберг 1997, 188]. В солярном мифе смерть является временным помрачением, незнанием, «отсюда стремление просветиться, познать истину, дарующую жизнь» [Фрейденберг 1997, 130]. Культовая мудрость связана с погребальными обрядами: «мудрые изречения и сентенции приносят мертвецу свет и оживление» [Фрейденберг 1997, 131]. По этой логике в произведениях, в которых присутствует сюжет об обретении истины (позднее о процессе творчества), часто возникает образ корабля (солнца), мотив движения в мир смерти. Таким образом, корабль («Дом») и слово (спасительная истина, искусство) взаимосвязаны и в романе М. Петросян. Образ рассказчиков как носителей особого знания в произведении играет важную роль, в частности, образ Табаки, который выступает хранителем истории Дома и историй его жителей. Дом-корабль, дом-солнце проходит циклический, вечный путь, оставаясь навсегда символом сакральной правды о жизни, смерти, любви, почерпнутой ценой болезни и страдания. Роман обладает циклической композицией: в последней главе в Дом снова привозят Сфинкса, которого встречает Табаки, хранитель истории, ожидающий приезда друга на новом временном витке.
Символика корабля синонимична символике дома, тела, чаше («Некоторые из <.. .> аспектов символики корабля <.. .> относятся к символам человеческого тела <.. .> форма чаши <.. .> создает еще более широкий простор для значений» [Керлот 1994,259]). Можно здесь провести параллель с символикой волшебного мешка в валлийских легендах «Мабиногион», отражающих мифологические представления древних кельтов: «Волшебный мешок <...> родственен волшебному котлу или чаше с неиссякаемым содержимым, из которых питаются души умерших в загробном мире. Образ, особенно популярный в ирландской мифологии (котел Дагда) <...> позже находит отражение в таинственных свойствах Святого Грааля» [Мабиногион. Волшебные легенды Уэльса 1995, 135]. Дети-инвалиды, живущие в Доме-интернате, в романе М. Петросян, таким образом, изолированные от всего мира, словно помещаются в символическую утробу-чашу, котел, для перерождения. Социальная изоляция больных страшной таинственной болезнью, нашедшая преломление в культуре, имеет реальные исторические корни. Об образе корабля, который символизирует подобное вытеснение больных за рамки мира здоровых людей, М. Фуко пишет следующее: «С наступлением эпохи Ренессанса область воображаемого пополняется но-

вым объектом <...>: это Корабль дураков <...> Narrenschiff - это литературный конструкт, заимствованный <...> из цикла легенд об аргонавтах <.. >, чей экипаж, состоящий из вымышленных героев <.. >, отправляется в великое символическое плавание; оно приносит персонажам <.. .> встречу со своей судьбой либо с правдой о самом себе <...>» [Фуко]. Образ дома в романе М. Петросян восходит, безусловно, к архетипу корабля (солярному мифу), несущего своих жильцов, изолированных из мира живых, по волнам вечности к познанию истины.
Способность жить фантазиями позволяет героям-инвалидам сохранить незамутненный взгляд на мир и душу, что порождает романтическое противопоставление мира воображаемого реальности. Об обывателях, живущих в мире «наружности», противопоставленном пространству Дома, Македонский, один из героев, говорит: «А чудеса их только пугали, они были им совсем не нужны» [Петросян 2012, II, 126]. В романе присутствует творимая персонажами мифология, история Дома, создаваемая жильцами. Интеллектуализм, характерный для подростковости (герои читают «Махабхарату» и Р. Киплинга, исполняют песню из Книги Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит, или «Туда и обратно», Табаки в истории Дома упоминает о Ч. Диккенсе, Дракон «треплется о Брейгеле», Сфинкс сравнивает себя с истекающим кровью Себастьяном, для характеристики друзей упоминается Босх, а Улисс - это кличка одного из старшеклассников, ворона Панетта носит имя героини романа О. де Бальзака, в разговорах персонажей используются цитаты из У Шекспира, возникают аллюзии на Д. Сэлинджера, Г. Мелвилла и т.д.), также способствует формированию альтернативного мира, понятного посвященным, что и влечет за собою повышенную цитатность, аллюзивность стиля произведения.
В романе присутствует архетипический мотив чистоты неразумных. В Доме есть дети, не осознающие себя, о них перед выпускной ночью Слепой говорит следующее: «Мне нужен флейтист в выпускную ночь <...> Чтобы увести Неразумных <...> Кто-то, кто сумеет их всех перевести. Гаммельнский Крысолов <.. .>» [Петросян 2012, III, 259]. В контексте рас-суждений Слепого о Гаммельнском Крысолове исчезновение Неразумных связано с попыткой героя спасти их от неминуемой нелюбви и гибели в мире Наружности. Идеализация детского безумия характерна и для баллады У. Вордсворта «Слабоумный мальчик», в которой воспевается образ неразумного ребенка, внутренний мир которого символизирует тайну и красоту, неподвластную сознанию обычного человека и даже поэта.
Сочетание реалистической достоверности с метафоричностью, символизацией, романтическим двоемирием создает в романе М. Петросян атмосферу магического реализма. Заострение правдоподобия позволяет сформировать контраст с миром фантастическим, усилить его необычность. Тема болезни раскрывается в романе через мотив физического страдания: «Этой ночью меня будут пытать. Собственные кости <...>» [Петросян 2012, II, 263]. Кость, по Х.Э. Керлоту символ жизни, «еврейское слово “luz” означает мандорлу, само дерево и его внутреннюю, скрытую и неприкосновенную сущность <...> она символизирует веру в воскресение и сравнима с образом куколки, из которой появляется бабочка» [Кер-лот 1994, 267]. Герои в романе (подобно куколке бабочки) стоят на пороге взросления, метаморфоз, осуществления собственного предназначения, глубинного, не связанного с ограничениями болезни. В художественном мире произведения тема болезни оказывается средством романтизации, по логике которой романтическому герою нет места ни в одном из миров, по-граничность, «зависание» между мирами (жизнью и смертью) является его уделом, на стене Дома о детях-инвалидах, «недолетевших» присутствует надпись: «Привет всем выкидышам, недоноскам и переноскам <...> всем уроненным, зашибленным и недолетевшим! Привет вам, “дети стеблей”» [Петросян 2012, II, 127]. Здесь возможна аллюзия на романтическую поэму У. Уитмена «Листья травы», в которой трава является символом не-вечности человеческой жизни и обновляемости человечества, единства человеческих судеб.
Социально-психологическая конкретика изображаемого в романе сочетается с элементами фантастики, присутствующей во снах героев, слухах, галлюцинациях. Герои романа верят в легенды и предания Дома, в присутствие «ходоков» и «прыгунов», пересекающих границы жизни и смерти, формируют ритуалы, одухотворяют природу и материальный мир: «Страсть жителей Дома ко всяким небылицам родилась не на пустом месте. Так они превращали горе в суеверия <.. .> Попади я сюда лет семь назад, может, и для меня общение с призраками было бы в порядке вещей» [Петросян 2012,1, 206]. Реалистическая достоверность и немотивированная фантастика выступают в произведении по отношению друг к другу как фон, способствующий гротескному выделению контрастирующих образов и характеристик, которое, в свою очередь, влечет за собою усиление воздействия на читателя, активизируя его усилия по восприятию текста. Правдоподобие в сочетании с фантастикой формируют двоемирие, ироническую художественную целостность, причудливый мир. Фантастика неявная, завуалированная (которую Жан-Поль Рихтер называет истинной: «Пусть чудо летит не как дневная и не как ночная птица, но как сумеречная бабочка» [Жан-Поль 1981, 76]), имеющая мотивировку, входит в роман наряду с волшебными элементами сказочной фантастики. Для произведения М. Петросян характерно диалектическое соотношение ценностных полюсов: реальное и воображаемое, толпа и личность, болезнь и здоровье, норма и отклонение, несвобода и свобода, смерть и жизнь. Преодоление опыта, связанного с «Домом», у персонажей по этой логике невозможно -он внутри каждого жителя как символ важного, уравновешивающего начала, необходимого для движения и жизни. Волей судьбы предстающие для мира как дети-инвалиды, герои являют собою вочеловеченное страдание, выковывающее из них возвышающихся над миром обыденности людей и отчужденных от него, что соответствует формуле иронического модуса художественности: «дивергенция внутренней заданности бытия (“я”) и его внешней данности (событийной границы)» [Теория литературы 2004, 76].
Идеализировать жителей дома, как и очернять мир за его пределами невозможно, такова ироническая логика: «Ироническое отмежевание субъективного “я” от объективного “мира” имеет обоюдоострую направленность: как против безликой объективности жизни («толпы»), так и против субъективной безосновательности, безопорности уединенной личности» [Теория литературы 2004, 76].
Тема болезни (метаморфоз), таким образом, присутствует в символике заглавия романа (образ порождающего хаоса «дома, который построил Джек...»); связана на фабульном уровне с организацией художественного времени и пространства, хронотопом Дома; системой персонажей (детьми-инвалидами и одновременно благодаря и вопреки болезни сверхлюдьми), мифопоэтическим уровнем (архетипами Дома, корабля, чаши, утробы, тела) - архитектоникой всего романа, формирующей ироническую целостность произведения.
Список литературы Тема болезни и ее функция в романе М. Петросян «Дом, в котором...»
- Баишева К.В. Экзистенциальная традиция в романе М. Петросян «Дом, в котором.» // ХУШ Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, с международным участием, посвященная 25-летию со дня образования Технического института (филиала) СВФУ: Материалы конференции. Секции 4-7. Нерюнгри, 2017. С. 291-294.
- Биякаева А.В. Бытовые и культовые действия персонажей как поведенческий кодекс в тексте магического реализма (на материале романа М. Петросян «Дом, в котором.» // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. 2017. Т. 3 (69). № 1. С. 59-67.
- Воронкова П. Е. Образы архетипа тени в произведении М. Петросян «Дом, в котором.» // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции: в 4 частях. Ч. 1. Пенза, 2017. С. 301-308.
- Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981.
- Истомина Д.А. «Дом, в котором.» М. Петросян как культовое произведение // Кризисный двадцатый век: парадоксы революционного кода и судьбы литературы. Сборник научных статей / отв. ред. Л.Г. Тютелова, Е.С. Шевченко. Самара, 2018. С. 207-212.
- Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994.
- Лебедушкина О.П. «Дом, в котором.» Мариам Петросян как «итоговый текст десятилетия» // Филологический класс. 2011. № 25. С. 20-21.
- Мабиногион. Волшебные легенды Уэльса / Изд. подгот. В.В. Эрлихман. М., 1995.
- Мельник Д.А. Рассказывание историй в романе «Дом, в котором.» М. Пе-тросян: смысловые уровни // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. 2013. Вып. 3. URL: https://elibiary.ru/download/elibrary_20743788_68092629.pdf (дата обращения 24.08.2018).
- Оверина К. С. Визуальные образы в романе М. Петросян «Дом, в котором. // XLV Международная филологическая научная конференция. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2016. С. 49-50.
- Петросян М. Дом, в котором.: в 3 т. М., 2012.
- Пропп В.Я. Русская сказка. М., 2000.
- Русанова О.Н. Мотив в аспекте исторической поэтики // Вестник ТГПУ, 2006. Серия гуманитарные науки (Филология). Выпуск 8 (59). С. 120-126.
- Рыбалко Т.Н. Литературная концепция детства в произведении М. Петросян «Дом, в котором.» // Теория и практика современной науки. 2017. № 6 (24). С. 738-743.
- Соловьева Т. Дом vs. Наружность. О романе Мариам Петросян «Дом, в котором...» // Вопросы литературы. 2011. № 3. С. 169-180. URL: http://magazines. russ.ru/voplit/2011/3/so9.html (дата обращения 24.08.2018).
- Сонтаг С. Болезнь как метафора. Москва, 2016. URL: https://mybook.ru/ author/syuzen-sontag/bolezn-kak-metafora/read/ (дата обращения 16.12.2018).
- Стихи Матушки Гусыни: сборник / Сост. К.Н. Атаровой. М., 2003.
- Тамарченко Н.Д. Тема // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 262-263.
- Теория литературы: в 2 т. Т. 1 / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004.
- Федоров В.В. Кумулятивный принцип сюжетостроения в неклассической поэтике автореф. дис. . к. психол. н. Тверь, 2011. URL: http://cheloveknauka.com/ kumulyativnyy-printsip-syuzhetostroeniya-v-neklassicheskoy-poetike (дата обращения 12.01.2020).
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
- Фуко М. История безумия в классическую эпоху. URL: https://www.gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/fuko_bez/01.php (дата обращения 21.11.2019).
- Щеглов Ю.К., Жолковский А.К. К понятиям «тема» и «поэтический мир» // Щеглов Ю.К. Избранные труды. М, 2013. С. 37-79.
- Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994.