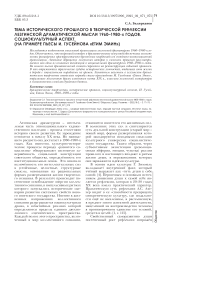Тема исторического прошлого в творческой рефлексии лезгинской драматической мысли 1960–1980-х годов. Социокультурный аспект. (На примере пьесы И. Гусейнова «Етим Эмин»)
Автор: Бедирханов С.А.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Языки культуры
Статья в выпуске: 2 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследуются особенности смысловой организации лезгинской драматургии 1960–1980-х годов. Отмечается, что возросший интерес к драматическому искусству обеспечивал возможности расширения пространственно-временных координат его сюжетно-композиционной организации. Активное обращение лезгинских авторов к смыслам прошлого рассматривается как одна из основных тенденций в национальной драматургии 1960–1980-х годов. Во многих пьесах драматический сюжет строится на реконструкции событий прошлого. В них отражаются трагические судьбы исторических личностей, отдавших свою жизнь в борьбе с социальными порядками их времен. Заметным явлением в лезгинском драматическом творчестве советского периода стало произведение И. Гусейнова «Етим Эмин», отразившее жизненную драму известного поэта ХIХ в., классика лезгинской литературы в символических смыслах духовного бытия.
Драматическое творчество, историческое прошлое, социокультурный аспект, И. Гусейнов, Етим Эмин, 1960–1980-е годы
Короткий адрес: https://sciup.org/140310690
IDR: 140310690 | УДК: 894.612.8-1 | DOI: 10.53115/19975996_2025_02_071_075
Текст научной статьи Тема исторического прошлого в творческой рефлексии лезгинской драматической мысли 1960–1980-х годов. Социокультурный аспект. (На примере пьесы И. Гусейнова «Етим Эмин»)
Лезгинская драматургия – неотъемлемая часть этнонационального художественного наследия – прошла столетнюю историю своего развития. Ее зарождение относится к началу ХХ века. Но наивысшего расцвета она достигает в 1960–1980-х годах. Как известно, культурно-исторические процессы периода «развитого социализма» обнаруживают системную завершённость социальной конструкции советского общества, определённость его институциональных основ. Это означало включённость его интеллектуальных сил в устойчивые, целостные, структурные смыслы, основанные на рациональных формах развертывания жизни творческого сознания. В результате происходит постепенное освобождение энергии коллективного сознания, в импульсивных ритмах которого запускались исторические сценарии развития системных свойств нового советского государства. Именно в жизненных напряжениях коллективного сознания разыгрывается социокультурная драма, в событийных реалиях которой определяются пределы единого двухполюсного «сценического» пространства. Каждый полюс этого пространства, включенный в мир коллективного сознания, становится носителем его жизненных сил. В волнениях этих сил и синтезируется суть дуальной конструкции (старый мир – новый мир), формы развертывания которой закодируются исходными смыслами культурного универсума социалистического государства. Таким образом, через субъективные экзистенции (революционная эйфория, эмоции, чувства) реалии прошлого и настоящего впадают в ритмы жизни души, в переживаниях которых они заряжаются идеями культуры.
В основу идеи культуры Г. Зиммель вкладывает внутренний факт, который учёный выражает как «путь души к себе самой» [4]. Первичным и основным источником движения души к самой себе является рефлексия, которая в 20–30 годах XX века имела практический характер. Практическую суть рефлексии А.С. Ахе-зер видит в ее «способности превращать синкретическую культуру, где модальности ещё не вычленены, в расчлененную, в предмет много аспектной деятельности, нацеленной на воспроизводство человека в противоречивом единстве его условий, средств и целей» [1, с. 115].
Свойственный саморазвитию души постепенный рост рефлексии сопряжён
Общество
Общество. Среда. Развитие № 2’2025
с все активным включением в её жизненные сценарии рациональных структур, на основе которых происходит «освоение, формирование программы воспроизводства человеческих (со)обществ на основе выработки всеобщего содержания культуры, абстракций, категорий, общих принципов и т.д., значимость которых возрастает в процессе усложнения человеческой реальности» [1, с. 115].
Достижение всеобщих смыслов бытия открывает для творческой мысли горизонты запредельных миров, в результате мотивируется всплеск рефлексии над универсальными, всеобщими установками мироздания. А это делало возможным выстраивание определенных ментальных схем, через которые творческое сознание уходит от жестко регламентированных партийными директивами жизненных сценариев, отказывается «от плена Времени в пользу Вечности» [6, с. 21]. Как следствие, жизненный мир освещается разнообразием ценностно-смысловых, структурных, идейно-художественных основ духовного бытия. Все это обосновывает актуальность исследований, направленных на прослеживание социокультурных процессов 1960–1980-х годов, определивших условия активного развития словесного, в том числе и драматического, творчества.
Одной из характерных черт идейно-художественных поисков дагестанской драмы в этот период становится обращение к прошлому, особенно «к образу поэта, художника, мыслителя, выход через проблемы, поднятые неординарной личностью, через его философские размышления на проблемы времени» [9, с. 137]. Для этно-национального художественного сознания лезгин непреходящую ценность представляет творческий феномен Етима Эмина, трагическая судьба которого становится предметом художественных размышлений многих поэтов, писателей, драматургов. В этом плане особый интерес представляет пьеса известного лезгинского писателя и драматурга И. Гусейнова «Етим Эмин». Исходя из этого, целью данной статьи является раскрытие форм и способов организации жизненного пространства национальной драматической мысли, обращенной к символам исторического прошлого. В работе рассматриваются не только литературные, но и социокультурные процессы, определившие условия активного развития национальной драматургии 1960–1980-х годов. Предметом исследования является пьеса И. Гусейнова «Етим
Эмин», посвященная трагической судьбе лезгинского поэта ХIХ века.
Пьеса начинается с авторской ремарки, в которой жанровая композиция произведения определяется как трагедия. Трагедия – один из видов драматургических произведений, в котором изображаются крайне острые, зачастую неразрешимые жизненные противоречия. В основе сюжета трагедии – непримиримый конфликт героя, сильной личности, с надличными силами (судьбой, государством, стихией и др.) или с самим собой. В этой борьбе герой, как правило, погибает, но одерживает нравственную победу [5].
Произведение И. Гусейнова написано в традициях дагестанской трагической драмы 1960–1970-х годов. В трагических произведениях дагестанских драматургов, по мнению Г.А. Султановой, в основном, освещались события исторического прошлого. «Преимущественно в центре этих произведений, – пишет ученый, – оказываются выдающиеся личности, героические сыны, легендарные герои разных времен и народов...» [8, с. 391].
В основе драматического действия пьесы И. Гусейнова лежит отрезок исторического прошлого. В сюжетных настройках этого действия прошлое приобретает новую темпоральную картину, основанную на линейных порядках моментов времени. Каждый момент, выпадающий из этого порядка, фиксирует точку «теперь». Через сценические настройки этой, самой центральной точки настоящего, определяется последовательность вхождения на сцену персонажей, речевые акты которых не столько синтезируются в эмоционально-волевых экзистенциях их душевной жизни, сколько вкладываются в их образные формы как бы со стороны.
Авторскому сознанию доступны сведения о некоторых фактах эпохи Ети-ма Эмина. Эти факты, уже включённые в его рефлекторные потоки, встраиваются в единый хронологический ряд, во временных ритмах которого синтезируются определенные, внутренне подвижные интеллектуальные схемы. Эти схемы и привязываются к образным формам персонажей в качестве форм их речевой субъективности.
История сохранила имена Абдуллаха-эфенди – известного ученого, в медресе которого учился Е. Эмин; Юсуфа-хана – правителя кюринского ханства; Гасана Алкадари – секретаря Юсуфа-хана, ученого, просветителя, поэта; П.К. Услара – военного инженера, лингвиста, этнографа, автора грамматических описаний абхазского, чеченского, аварского, лакского, даргинского, лезгинского и табасаранского языков; К. Зульфукарова – учёного, поэта и просветителя, помощника П.К. Услара в исследовании лезгинского языка; Мелика – брата Е. Эмина, который глумился над тяжело больным поэтом; Тукезбан – жены Е. Эмина. Каждая личность, каждое событие, включённое в рефлекторные потоки сознания, приобретает жизненную энергию, в результате выстраивается единый хронологический порядок, образующий новую темперальную комбинацию настоящего.
Главный герой пьесы И. Гусейнова – классик лезгинской поэзии Етим Эмин. В его образном строении концентрированы жанровые характеристики трагедии. Трагическая определенность образных характеристик означает напряженность жизненных экзистенций, которые, пройдя через всё пространство переживаний, образуют различные формы состояний души. Внутреннее содержание этих форм определяется характеристиками неких внешних, внежизненных источников генерации случайных обстоятельств. Источником чувств сострадания в основном являются негативные, драматические случайности, которые вкупе с жизненными силами нарушают их естественные ритмы, тем самым ставя жизнь перед несущей экзистенциальный смысл угрозой.
Порядок вхождения образа главного героя пьесы в драматическое действие определяет пространственно-временные координаты отдельных, ситуативно-локализованных сценических актов, включённых в единую хронологическую цепочку драматического времени. В итоге, привязанные ритмами настоящего друг к другу сценические эпизоды, становятся невосприимчивыми к «стихийным» законам жизненного порядка.
Первое знакомство читателя, зрителя с Эмином происходит во второй сцене первого акта. Он ещё с двумя учениками находится в доме его учителя Агамирзы-эфен-ди. Сцена начинается с авторской ремарки: Кеан Агъамирзедин кIвал. Гьа и кIвале Эфен-дидин медресе ава. КIвале пуд сухта – Ягъи, Та-гьир ва Эмин ава [3, с. 72]. (Дом Агамирзы из Кеана. В этом доме и медресе эфенди. В доме три студента – Яги, Тагир и Эмин1)
Етим Эмин вступает в разговоры с учениками Яги и Тагиром, а затем с Тукезбан, дочерью своего учителя. Сценический эпизод завершается с коротким монологом поэта, последовавшим за его диалогом с Агамирзой-эфенди. Етим Эмин и Тукез-бан любят друг друга, однако Агамирза-э-фенди –отец девушки – не одобряет эти отношения. Он осуждает своего ученика: / Вун Мегьамед-Эмин, жуван бала хьиз, / Кьа-булна за, ваз зи рикI, рак ахъа тир. / Папа хва хьиз, зи рушани стха хьиз / Гьисабнай вун. Амма вуна? ( /Тебя Магомед-Эмин, как свое дитя / Принял я, для тебя открыто было сердце мое. / Жена сыном, дочь братом, / Cчитали тебя. А ты?)
Агамирза-эфенди уходит. Эмин, оставшись наедине, произносит слова: / Я рикI, вуна куьз ийида къелетар / Бейкефариз; закай хъел гъиз са-садаз [3, с. 77] . (/ Мое сердце, почему ты допускаешь ошибки / Обижая; скольких людей поссорил со мной).
Диалоги Эмина с собеседниками, светящие субъективную суть его речевой деятельности, выявляют определённые мировоззренческие и чувственно-эмоциональные установки, которые выводятся наружу в качестве жизненных позиций поэта. Однако, следует отметить, что душевно-мотивационные силы концентрации этих позиций стекают не столько из глубин жизненного мира, столько со стороны народной памяти, хранящей исторически сложившиеся стандарты его жизненных стратегий. Этому способствует и стилистическая организация речевой деятельности главного героя пьесы.
Пьеса И. Гусейнова в основном написана языком стихотворчества. Образные настройки персонажей, в том числе и главного героя, в произведении опираются на стихотворные формы организации речевых субъектов. Как следствие, в жизненный мир поэта внесен определённый структурный компонент в качестве формы организации его ритмического настроя, не синтезированного, однако, силами самой этой жизни. В устах поэта звучит речь, поэтическая, генерированная потоками не его дара, а авторского сознания, которое не может воспроизвести всю полноту гения классика лезгинской литературы. Тем самым происходит некий разрыв формы и содержания жизненного материала, вложенного в образную форму главного героя. Состояние сострадания, включенное в образный мир Эмина как основополагающий момент его содержания, полагает активность живых, чувственных эмоций, которые, однако, в основном подавляются некими общими мыслительными реалиями духовных концентраций жизни. Тем самым нарушается закон трагедийной
Общество
поэзии, которая возникает «только тог- да, когда интеллектуальные элементы, не уничтожаясь и не исчезая, сливается воедино с чувственным» [2, с. 316].
Следующий эпизод драматического действия представляет героя на сцене вместе с родными ему людьми: с дочерью Мус-лимат, женой Тукезбан и братом Меликом. Диалоги Эмина с дочерью и женой состоят из чередований коротких реплик, состоя- щих из простых, не усложненных логических схем жизни их сознания. В результате выравниваются линии мыслительных связок диалогического пространства.
Полное расхождение духовных координат собеседников не только по интел-
Общество. Среда. Развитие № 2’2025
лектуальным, нравственным, но и чувственно-эмоциональным линиям их развертывания проявляет разговор Эмина с Меликом. Следует отметить, что сведение их образных явлений к единому пространственному целому мотивировано не только логическими и темпоральными координациями течения драматического действия, но и целесообразностью «оживления» устойчиво утвердившейся в народе гипотезы, которая откладывала в его памяти представление о Мелике как злодея, нанесшего серьёзную душевную рану старшему брату. Эта гипотеза и доставляет характеристики, которые выстраивают главную линию образного мира Мелика. Жизненное содержание этого мира образуется из таких качеств, как хамство, лицемерие, тщеславие, зависть, эгоизм.
Мелик пишет жалобу, на основе которой власть принимает решение о конфискации имущества Эмина в пользу его племянников. Тем самым определяется еще один внешний источник душевного страдания поэта. В этих страданиях оголяются нравственные истоки его поэтического дара. Староста села Яраг Фетях, который записывает имущество Эмина, видит причину его проблем в жесткости его слов. Эмин отвечает ему: / Итимриз /Рахаз гзаф регьят я гьа. Шаирдиз / Гъахъ кхьимир лугьуз женни мегер хьи?/Ам шиир я, садахъ ширин фикир гъиз, / Муькуьдахъни галукьзава вергер хьиз. / На гьикI лугьуй ракъиниз нур гумира?/ На гьикI вацIуз лугьуй фимир агъадал?/ На гьикI лугьуй къулавай цIуз кумира?… [3, с. 96] (/ Мужчинам / Говорить очень легко. А поэта / Разве можно просить не писать правду? / Это стих, для кого-то как сладкая мысль, /А кого-то жжет как крапива. /Как ты скажешь солнцу, чтобы оно не светило? / Как ты скажешь речке, чтобы она не текла вниз? / Как ты скажешь огню в очаге, чтобы он не горел?)
Дальнейшее движение драматического действия выводит телесно явленного образного целого главного героя пьесы из центральной линии сюжетной композиции, через структурные компоненты которой в ритмы настоящего поступают последствия, но уже доведенные до уровня переживаний, отдельного исторического события, а именно восстания 1877 года. Эти последствия оказались очень тяжелыми для общества. Последствия восстания оказались тяжелыми и для Эмина. Поэт «пережил восстание, но для него лично оно все, же имело катастрофические последствия: самые образованные и близкие ему люди подверглись казни и репрессиям, и он остался без друзей и без интеллектуальной среды, в которой привык жить» [7, с. 130]. Духовное одиночество поэта перетекает в сценическое одиночество. Финальная сцена «поместила» героя в себе замкнутое пространство. Он, тяжело больной проказой, изолирован в отдельной комнате. С ним общается через отверстие в потолке комнаты. Постепенно угасают жизненные силы поэта, что приводит к его смерти.
Если во многих трагедийных произведениях смерть героя заключается в завершении всяких, вызванных бурными эмоциями интриг, конфликтов, жизненных драм, то смерть Эмина означает выведение в путь истории момент духа, славы, который, не подверженный к временным ограничениям, приобретает бессмертие. Этот момент есть дар поэтического явления Эмина. Поэтому настройка идеальной проекции жизненного мира главного героя, носителя бессмертного поэтического дара, вносит высокий заряд напряжения не только в нервные импульсы авторского сознания, в ритмы концентрации авторской идеи, но и в темпоральные порядки движения драматического действия произведения И. Гусейнова.
Таким образом, культурная жизнь социалистического общества в 1960–1980-х годах определяется в реалиях активного формирования и развития сущностных компетенций творческого сознания. Эти реалии выстраивали ментальные основы сознания, синтезирующие ритмы его жизнедеятельности в основном в смысловых конструкциях определенности и устойчивости. Художественные явления эпохи не были открыты к «естественным», «природным», несущим смысл разнообразия, формам организации духовных основ общества. Компетенции производства этих форм всецело принадлежали идеологи- ческой матрице государственного устройства, которая, овладев жизненными устоями народного духа, проявляла тотальное равнодушие к его бытийным экзистенциям. С одной стороны, это явление, с другой – вхождение в художественную жизнь всё больше средств, символов, зашифрованных вариативными смыслами жизненных стандартов, приводят к определенной разбалансировке душевной настройки творческой мысли. Для уравновешивания жизни души она погружается в некие символические сферы. Развертывание пространственно-временных координат этих сфер делает возможным выход (мысленно) из жестко регламентированных правил социокультурной жизни. Одна из этих сфер – сфера народной памяти, из которой активно начали возвращать имена исторических личностей.