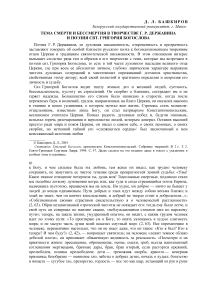Тема смерти и бессмертия в творчестве Г. Р. Державина и поэзия свт. Григория Богослова
Автор: Башкиров Д.Л.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.6, 2001 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению поэзии Г. Р. Державина как продолжения той духовной традиции, которая сложилась в византийском богословии. Прослеживается сходство тем, мотивов, образов в его произведениях со стихотворениями свт. Григория Богослова. Особое внимание уделяется духовной концепции человеческой «бедности» и стоящей за ней традицией апофатического богословия как сущностного начала, присущего русской литературе в понимании мира и человека.
Бог, богословие, путь, апофатический, русская литература, стихотворение
Короткий адрес: https://sciup.org/14749172
IDR: 14749172
Текст научной статьи Тема смерти и бессмертия в творчестве Г. Р. Державина и поэзия свт. Григория Богослова
Поэзия Г. Р. Державина, ее духовная насыщенность, откровенность и прозрачность заставляют говорить об особой близости русского поэта к боговдохновенным творениям отцов Церкви и традициям святоотеческой письменности. В этом отношении интерес вызывает сходство ряда тем и образов в его творчестве с теми, которые мы встречаем в поэзии свт. Григория Богослова, то есть в той части духовного наследия великого отца Церкви, где при всем ее абсолютно личном, глубоко лирическом характере выражена чистота духовных созерцаний и мистических переживаний догматов христианства, свойственная этому автору, всей своей полнотой и трагизмом определяя и окормляя его личность и судьбу.
Свт. Григорий Богослов видит тщету земных дел и желаний людей, суетность, бессмысленность, пустоту их стремлений. Он скорбит о ближних, сострадает им и не теряет надежды. Большинство его стихов было написано в старости, когда после пережитых бурь и волнений, трудов, направленных на благо Церкви, он оказался наконец в тишине и покое уединения, о котором мечтал всю жизнь. Стремясь стать монахом-отшельником, известным лишь Богу, он стал патриархом Константинопольским, вселенским учителем Церкви. Познал радость духовных побед и, будучи гонимым, испытал горечь разочарования и вероломство людей, которым доверял. Оставив высокий престол ради мира и покоя Церкви, он писал о самом себе, о своих немощах, о своих скорбях, но истинной тайной его «слезящегося сердца»1 был заключенный в нем неиссякаемый источник любви
Святитель Григорий Богослов , архиепископ Константинопольский. Собрание творений: В 2 т. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 57. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием в скобках тома и страницы.
к Богу, и чем сильнее была эта любовь, тем яснее он видел, как трудно человеку сохранить, не замутнить ее чистое течение среди превратностей земной судьбы: «Увы! Какое тяжкое отмщение потерпела ты, душа моя! Тщеславные смертные, подлинно стали мы подобны легкому дуновению ветра; или, как туда и сюда стремящийся поток Еврипа, надмеваясь пустотою, вращаемся мы на земле. Ни худое, ни доброе — ничто не бывает у людей до конца одинаковым. Пути добрых и злых идут между собою весьма близко; и злый не знает, чем он кончит впоследствии, и добрый не твердо стоит в добродетели...»; «Собственными своими страстями свидетельствую я о человеческой растленности» (2, 63). Образ незапятнанной отроческой чистоты не покидает его: тогда ему было легче, и свой путь он совершал по наитию свыше, «неблуждающими стопами шел по царскому пути»; теперь, на закате жизни, умудренный опытом, он видит, с каким трудом человек идет по этому пути: «То простираю ум к Богу, то опять увлекаюсь в худую слитность мира; и не малую часть души моей исказил смутный мир» (2, 63). Все переменчиво в человеке, переменчиво настолько, что он не знает даже, что он такое: «Кто я был? Кто я теперь? И чем буду?» (2, 42), — вопрошает святитель; на человеке «лежит темное облако дебелой плоти», он принимает обманчивую видимость за реальность: «Посмотри и на приятности жизни: пресыщение, обременение, пение, смехи, гроб, всегда наполненный сотлевшими мертвецами, брачные дары, брак, брак вторый, если расторгся прежний, прелюбодеи, поимка прелюбодеев; дети — тревожная скорбь; красота — неверная приманка; безобразие — невинное зло; заботы о добрых детях, печаль о худых; богатство и нищета — сугубое зло, презорство, гордость — все это как шар, летающий из рук в руки у молодых людей» (2, 46).
Такая же скорбь пронизывает ускользающий образ земной реальности, в котором открывается вся очевидность ее неподлинности, в поэзии Г. Р. Державина: от строк в оде «На смерть князя Мещерского»: «Где стол был яств, там гроб стоит»2, — до последних, написанных его рукой: «Река времен в своем стремленьи / Уносит все дела людей...» (29). Люди равны перед смертью: «Монарх и узник — снедь червей...» (77) — возглашает Державин; «Рано или поздно, но всякому смертному равный жребий. От всякого останутся, видимого мира как отсвета и отблеска иного, невидимого, как откровения об этом ином мире:
Коль тень и прообразованье
Небесного — сей дольний мир...» (148)
В «Облаке» перстное начало образа вознесено «Лучом над высотой холмов» (195), красота облака заключена в свете, дающем ему жизнь, оно существует, пока есть свет, оно — «временщик», за пределами света облако — «грязь», которая под тяжестью своего естества
На блаты, тундры опустясь,
Ложится в них, — и зрится грязь. (196)
Легко соотносясь своими естественными качествами с представлениями поэта о человеческой жизни, образ не утрачивает своей данности, он не просто аллегория, а «живое изображенье» «вельмож, царей» (196). В нем заключено то особое видение мира, отличающее и творчество свт. Григория Богослова, для которого поэзия — »это земные печальные песни», выносимые «из какой-то глубины» «перстью», одухотворенной Богом, как никогда остро ощущающей свое родство с «землей», из которой она произошла, и еще острее проникающей в то новое, божественное, что она в себе несет и что отличает ее от всего чувственного мира. Поэтому эта «одухотворенная персть» (человек) «оплакивает жизнь, по-видимому, улыбающуюся» (2, 123). У Державина из тождества физической картины — «облака» — и жизни людей, поднимающихся «из праха, из презренья», принимающих за действительное то, что на самом деле — «пары» («все здешнее — смех, пух, тень, призрак, роса, дуновение, перо, пар, сон, волна, поток, след корабля, ветер, прах, круг, вечно кружащийся, возобновляющий все подобное прежнему, и неподвижный и вертящийся, и разрушающийся и непременный...» (2, 49), — описывает человеческую жизнь свт. Григорий Богослов), рождается особое духовное напряжение, которое и позволяет видеть эту тождественность и вытекающую из нее ничтожность дел людей. В этот момент человек как бы выводится из пределов этого порочного круга, вычитается из него, возрождая одухотворяющее его начало и вместе с ним обретая иной, просветленный взгляд на природу, освобождающий и ее от непреложности естественных законов, от «перстного» состояния.
Погружаясь в «оплаканную» и одновременно «улыбающуюся» жизнь, оба поэта видят и тот строй человеческого существования, который оскорбляет людей и лишает их свободы,
85 подчиняя себе и в себе заключая. Абсолютность сходства воплощения этого строя жизни в их поэзии поражает:
Подобен мир сей колесу.
Се спица вниз и вверх вратится,
Се капля мглой иль тучей зрится...» (197), — пишет Державин в «Облаке»; у свт. Григория Богослова в стихотворении «Жизнь человеческая» есть следующие строки: «Эта краткая и многообразная жизнь есть какое-то колесо, вертящееся на неподвижной оси: то идет вверх, то склоняется вниз, и хотя представляется чем-то неподвижным, однако же не стоит на месте <…>. Посему ни с чем лучше нельзя сравнить жизнь, как с дымом, или с сновидением, или с полевым цветком» (2, 123). Страдающее сердце и душа поэта свидетельствуют об этом, ибо уже на закате жизни он спрашивает себя: «Что же такое человек?», «Что наиболее, по-твоему, составляет мое я?» (2, 42) — и понимает, что вся жизнь и есть это возвращение к самому себе. «Я существую. Скажи, что это значит?» — восклицает он. — «Я не что-либо непременное, но ток мутной реки, который непрестанно перетекает и ни минуту не стоит на месте...» Развивая данный образ, святитель пишет: «Никогда не перейдешь в другой раз по тому же току реки, по которому переходил ты прежде. Никогда не увидишь человека таким же, каким видел ты его прежде» (2, 42). В этом обращении к вопросу, которым задавался псалмопевец Давид: «Что такое человек...» — заключен основной лейтмотив поэзии Григория Богослова. Здесь истоки того прозрачного видения жизни, где за всем сиюминутным, наносным, обманчивым открывается безбрежная даль истинного поприща человека — вопреки всему, всем обстоятельствам жизни найти в себе то, что «составляет мое я»: «Я не прекращу сетования, пока не избег плачевного порабощения греху, пока ключом ума не замкнул безумных страстей» (2, 58).
Духовная жизнь в поэзии свт. Григория Богослова овеществлена, она реальна, это не плод мгновенных прозрений, это борьба не только души, но и тела, она достигается потом и кровью, напряжением всех сил — и душевных и телесных: она — и в учащенном дыхании, и в боли утомленных мышц, потому что человек — та середина мироздания, где пересекаются небесные и земные пути: «...а в середине я — текущий на поприще. Я не очень легок на ногу, но не без надежды на награду напрягаю свои мышцы в бегу, потому что Христос — мое дыхание, моя сила, мое чудное богатство» (2, 40).
У Державина в оде «Бог» человек «поставлен» в «средине естества», он — «связь миров», «крайня степень вещества», «средоточие живущих, Черта начальна Божества» (31). Такой взгляд на человека, на то, что является его сутью, его страданием и наградой, станет достоянием русской литературы: «О вещая душа моя! / О сердце, полное тревоги, / О, как ты бьешься на пороге / Как бы двойного бытия!..» — опишет Тютчев это «серединное» положение человека между духовным и телесным, между памятью его души и миром, который стремится лишить его этой памяти, оживающей, однако, в человеке вопреки естественным законам бытия, которым он подчинен и которые должен победить: «Душа готова, как Мария, / К ногам Христа навек прильнуть».
Дух вечен, в нем оправдание остроты ощущения смерти, конечности всего сущего, перед которыми бессмысленны все земные устремления человека:
Не вечно бездна дух обымет,
Но он ее переживет...» (146) — пишет Державин в оде «На тщету земной славы». Духовное видение этого мира, жизни, роднящее поэзию Державина с поэзией Григория Богослова, рождает и сходство образов. В поэзии Державина часто встречается уподобление человеческой жизни дому. Тщеславие и суета создают дворцы («О удовольствии», «Ко второму соседу»), но исход этого рукотворного строительства один для всех:
Надежней гроба дома нет,
Богатым он отверст и бедным... (187)
Но есть и образцы нерукотворного обожения человеческого естества уподобляющегося в этом своем состоянии храму:
Зри, хижина Петра до днесь, Как храм, нетленна средь столицы! (187) — это итог странничества человека «меж стремнин и гор» (148), падений и греховных соблазнов дольнего мира, претерпев которые
От мира дух твой возлетает
Так вечности в прекрасный дом. (148)
В его стихах образ дома — «хижины» или «гнезда» — становится тем центром, вокруг которого созидается уже «храм» природы, несущий в себе откровение о будущем. В «Ласточке» «домовитая Ласточка», «над гнездышком сидя», созерцает «лета роскошного храм» (132—133), а ее странствия через непостоянство времен года выливаются для поэта в радостное
87 созерцание мира, который всем своим строем несет на себе печать обетования, надежды будущего воскресения:
Душа моя! Гостья ты мира: Не ты ли перната сия?
Воспой же бессмертие, лира!
Восстану, восстану и я... (133)
В стихотворении «Сон о храме Анастасии, который свт. Григорием устроен был в Константинополе» в сознании автора проносятся его судьба и судьбы тысяч людей, встреченных им на жизненном пути, которые соединяются, сплетаются в удивительно прозрачный, но вместе с тем исполненный зримой полноты и весомости образ храма. Люди, которых он вводил под его своды, преображаются в нем, облекаются прекрасной гармонией его художественно совершенных форм, но и само зодчество испытывает обратное движение, воспринимая от преображенных в нем душ почти неземную красоту. От Прекрасной Анастасии изливается свечение вещества, из которого она создана, стирая грань между трудом зодчих, каменщиков и трудом пастыря — ибо духовное обретает свой Дом в виде прекрасного храма, облекается его формами и материалом, находит в них свое выражение и одновременно преображает их; и сам труд пастыря — это труд во всей его полноте создателя храма. «Анастасия — новый Вифлеем», — звучит голос разлученного с нею. Анастасия стоит между земным и небесным, между внешним и внутренним. И чем прекраснее художественное, рукотворное совершенство ее сводов, чем выше она возносит свои купола и отчетливее открывается земле, тем глубже мысль о ней запечатлевается в сердце автора и вбирает в себя образы людей, проходящих перед его глазами: «Как часто и без великих жертв и без трапезы очищал я людей, собранных у Анастасии, сам пребывая вдали, внутрь сердца создав невещественный храм и возлияв слезы на божественные видения! Никогда не забуду, если бы и захотел, не могу забыть вашей любви, девственники, песнопевцы, лики своих и пришлых, восхищающие попеременным пением, вдовицы, сироты, не имеющие пристанища, немощные, взирающие на мои руки, как на руки Божии, и сладостные обители, препитывающие в себе старость!» (2, 82—83). Анастасия — это и его труд, обращенный к Востоку и Западу, и «плач Григория, воздыхающего об Анастасии, с которой разлучила меня некогда безсильная зависть» (2, 83). Рождение человека во Христе — это и его введение в храм мироздания, который в свою очередь этим введением созидается. Сама Византийская Империя — »это огромный храм. Вся жизнь ее освещена молитвою и тайнодействиями. Быт двора и частных лиц пронизаны были лучами церковности...»3. И русская поэзия, начиная с Державина, пронизана этими прекрасными формами храмового зодчества, облекающего собой нерукотворный круг церковной жизни, таинства Церкви — всю неземную красоту храма, которая в свое время потрясла послов Владимира Крестителя.
Среди причин, побуждающих его выражать свои чувства и мысли в «мерной речи», Григорий Богослов называл и следующую: «...изнуряемый болезнию, находил я в стихах отраду, как престарелый лебедь, пересказывающий сам себе вещания свиряющих крыльев, — эту не плачевную, но исходную песнь» (2, 409). В поэзии Державина «лебедь» — символ бессмертия души, воплощенного в «пеньи». «Поэзии бессмертно пенье...» (149) — находим мы в «Урне». В образе лебедя он бежит «от тленна мира»:
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь (205);
даже смерть — это шаг на пути к преображению, к ожидающей его впереди вечности последнего лебединого полета:
Супруга! Облекись терпеньем!
Над мнимым мертвецом не вой (206)
Поэзия для Григория Богослова — это возможность выразить свои чувства к Богу, выразить то, что не способен постичь разум. В «Песне к Богу» он восклицает: «О Ты, который превыше всего! ибо что иное позволено мне изречь о Тебе? как воспеснословит Тебя слово? ибо Ты неизрекаем никаким словом...» (2, 104). Славословие по отношению к Богу выливается в непрерывный поток мыслей, с которыми к Нему устремляется поэт, потому что ни одна из них в отдельности неспособна выразить испытываемые им переживания. Подобный путь избирает в оде «Бог» Г. Р. Державин. «О Ты, пространством бесконечный...» — так начинается ода, последняя строфа которой:
Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей Воображении бессильны И тени начертать Твоей... (31—32)
Мир открывается как зеркальное отражение высшей реальности. Он символичен, но лишь в том плане, что художник становится тем сосредоточением, тем пространством, где небесное соединяется с земным, где символ становится не разделением, а связью этих двух миров, выражением непрерывного движения художника по ступеням иерархии. Символизм Державина — мука, почти запредельное напряжение человеческого духа, на грани его сил и возможностей, где каждое мгновение — погружение в абсолютную данность сущего, в красоту как в смысл и цель творчества, где каждое слово, наполненное своим высшим смыслом, есть Слово Божие, где вдохновение — боговдохновение. Светлое и радостное чувство единения с Богом, молчащее в своем личностном качестве и протекающее в русле сверхиндивидуального молитвенного предстояния человечества Богу, в стихах свт. Григория Богослова обретает свое лицо. В нем пророческая сторона творчества как вестницы воли Божией и носительницы Его силы облечена в глубину религиозных символов и одновременно в этом индивидуальном своем качестве не может в нее погрузиться, оторваться от поверхности, где эти символы лишь отражения, прообразы грядущего в настоящем, куда постоянно возвращает поэта его «я», его «авторство». Он и «послушная трость в руках книжника-скорописца», и он же переживает величайшее напряжение индивидуальной энергии. Человеческое слово преображается Божественной благодатью, произведение в какой-то момент перестает быть образцом литературного творчества. Оно пребывает уже вне «авторства», его венчают «благодарны слезы», как, например, в оде Г. Р. Державина «Бог», а начинает «славословие». «Славословие» и «благодарение» — начало и завершение молитвенного предстояния, находящееся за ними — муки творчества, то, что остается автору в его личный удел: острота ощущения быстротечности земного бытия, объемлемого естеством, рассекающего, приносящего страдания его бессмертному духу: «И дух мятется от печали...»; «А завтра — где ты, человек?..» (78) — вопрошает Державин. Каждый миг земного существования прекрасен, и поэт, как никто, видит это, но прекрасен именно своим откровением о будущем. Земное бытие — и отрада, и мука, «рана», это «враг», пленивший душу, «...и она потупляет в землю печальные очи. Таково мое страдание; вот рана, которую ношу в сердце!..» (2, 57) — пишет свт. Григорий Богослов. Увлечение «в худую слитность мира» и «смутный мир» искажают душу (2, 63), но в этом страдании, о котором пишет святитель, — и полнота ощущения «Божьего ока», от которого не «утаимся» (2, 64), в лучах которого несет тело свою душу. Этот Божественный взгляд, который знает в себе свт. Григорий Богослов, — «очистительный огнь, пожирающий легкое и сухое естество греха» (2, 64); и это же «Надежда» Державина:
Глас Надежды — Божий глас.
Глас Надежды — сердца сладость... (246), в ней — прозрачность, откровенность в видении земной реальности: «Восхищение ума, О добре грядущем радость...» (246). Но проникновение в земное несет в себе и приближение к нему. Человек прозревает за естественным ходом и течением жизни свою плененность ею: «…трепещу день и ночь, видя, как душа ниспадает от Бога на землю, больше и больше сближается с перстию, которой желал я избежать», — горестно восклицает свт. Григорий Богослов (2, 64).
Итог творчества — не «звуки лиры», удерживающие земные мгновения, а та прозрачность видения, которая открывает за земной реальностью грядущее; сокровенное движение образов — «река времен», уносящая «дела людей» в пропасть «забвения», за которой разверзлось жерло вечности, где начертаны все судьбы.
Список литературы Тема смерти и бессмертия в творчестве Г. Р. Державина и поэзия свт. Григория Богослова
- Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творений: В 2 т. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 57.
- Державин Г. Р. Сочинения: Стихотворения; Записки; Письма. Л., 1987. С. 78.
- Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 14.