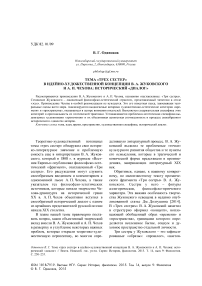Тема "трех сестер" в идейно-художественной концепции В. А. Жуковского и А. П. Чехова: исторический "диалог"
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются произведения В. А. Жуковского и А. П. Чехова, одинаково озаглавленные: «Три сестры». Сочинение Жуковского - лаконичный философско-эстетический «трактат», представленный читателю в стиле «эссе». Произведение Чехова в особой рекомендации не нуждается. Это его известная пьеса, завоевавшая театральные сцены всего мира. Анализируются выдвигаемые авторами художественно-эстетические категории «времени» и «пространства», оказавшиеся в центре внимания писателей. Выясняется содержательная специфика этих категорий и оригинальность их поэтической трактовки. Устанавливается проблемно-эстетическая специфика выдвигаемых художниками «хронотопов» и их объективная ценностная соотнесенность в процессе своеобразного исторического «диалога» авторов.
Тема, идея, время, пространство, художественная специфика, исторический диалог, historical dialoguе
Короткий адрес: https://sciup.org/147219457
IDR: 147219457 | УДК: 82.
Текст научной статьи Тема "трех сестер" в идейно-художественной концепции В. А. Жуковского и А. П. Чехова: исторический "диалог"
Теоретико-художественный потенциал темы «трех сестер» обнаружил свое историко-литературное значение и проблемную емкость еще в интерпретации В. А. Жуковского, который в 1808 г. в журнале «Вестник Европы» опубликовал философско-эстетический «фрагмент», озаглавленный «Три сестры». Его рассуждения могут служить своеобразным введением и комментарием к одноименной пьесе А. П. Чехова, а также указателем тех философско-эстетических источников, которые питали творчество Чехова-драматурга на исторической грани ХХ в. А. П. Чехов объективно вступил в своеобразный исторический диалог с одним из ярчайших представителей русской поэзии начала XIX столетия.
В плане нашей темы правомерно поставить вопрос, каков объективный творческий вклад внесли В. А. Жуковский и А. П. Чехов в развертку и углубление некоторых важных проблем, которые открыли теоретико-художественную перспективу, во многом опре- делившую литературный процесс. В. А. Жуковский выделил те проблемные «точки» культурного развития общества и те пункты его осмысления, которые в трагической и комической форме представали в произведениях, завершающих литературный XIX век.
Обратимся, однако, к важному конкретному, но малоизвестному тексту прозаического фрагмента «Три сестры» В. А. Жуковского. Сестры у него – фигуры аллегорические, философско-притчевого характера. Эта важная особенность творчества Жуковского освещена в недавно опубликованной статье Дм. Долгушина [2014]. В «Трех сестрах» В. А. Жуковский наметил и структурно оформил «концепт», воплощающий обобщенный образ «времени» и «пространства», границами которого определяется вселенское бытие, социум и духовное пространство отдельной личности.
Три сестры у Жуковского – это зафиксированные «образы»: «прошлое», «настоя-
Одиноков В. Г. Тема «трех сестер» в идейно-художественной концепции В. А. Жуковского и А. П. Чехова: исторический «диалог» // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9: Филология. С. 250–255.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 9: Филология
щее» и «будущее». Для писателя – это своего рода «театральные персонажи», структурирующие драматургическую основу человеческого бытия. «Кризисные моменты» этого бытия провоцируют локальные конфликты, которые решаются с помощью того Божественного начала, на котором основана женская три-ипостасность «мировой души». Об этом позже подробно будет писать религиозный философ Вл. Соловьев, а Чехов воспримет эту идею в качестве философско-религиозной основы мира.
Не вторгаясь в философские «дебри», обратимся к конкретному материалу фрагмента «Трех сестер» и постараемся увидеть то, что «программирует» в типологическом плане позднейшие художественные открытия А. П. Чехова в области драматургии, в частности, в пьесе «Три сестры». Философско-дидактическая программность теоретической статьи В. А. Жуковского просматривается у Чехова с самого начала драматургического текста. Поэт в начале XIX в. писал: «Вся наша жизнь была бы одним последствием скучных (выделено мной. - В. Г.) и несвязных сновидений, когда бы с настоящим не соединялись тесно ни будущее, ни прошедшее – три неразлучные эпохи: одна украшает другую, одна от другой заимствует прелесть» [Жуковский, 1954. С. 485]. Философско-эстетический «камень», брошенный Жуковским, что называется, попал в чеховский «огород».
Напомним, что в первом действии пьесы «Дядя Ваня» главный герой Войницкий начинает жаловаться на жизнь, говоря, что он «глупо проворонил время». Соня его обрывает, произнося то слово, которое мы выделили, цитируя Жуковского: «скучно». «Дядя Ваня, скучно!» – произносит Соня. Это «ключевое» слово обнаруживается, что весьма знаменательно, еще до А. П. Чехова, у Н. В. Гоголя, который, как и В. А. Жуковский, придавал этому слову глубокий социально-философский смысл. Вспомним эпилог «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», которая входит в гоголевский цикл «Миргород». Заканчивается она, как известно, словами рассказчика-повествователя: «Скучно на этом свете, господа!». Гоголь придает этой реплике особое значение, так как она связана дополнительно с «дорожной скукой», ибо герой повествования отправляется в какую-то важную поездку в «экипаже». Далее, в поэтической системе Гоголя, он трансформируется и превратится в «птицу-тройку», след которой пройдет через всю Россию, с Запада до Востока. В этом контексте «российская скука» обретет универсализированный и всемирный смысл [Крюков, 2008].
В «Трех сестрах» А. П. Чехова мотив скуки становится особой эмоционально-поэтической тональностью изображаемой автором жизни, которую своими действиями и прогнозами стремятся «разрушить» персонажи пьесы. В концептуальном плане выход из состояния «смертельной скуки» предложил уже В. А. Жуковский. В связи с этим вернемся к контексту его размышлений о данном предмете. В аллегорической форме поэт представляет коллективный образ «трех сестер», демонстрирующих философское единство мира и спасительную функцию времени , как одной из частей мирового «универса», который включает еще и понятие «пространства». Но сейчас речь пойдет о времени.
Условный повествователь, девица Мин-вана, в притче-аллегории В. А. Жуковского «Три сестры» встречается с персонифицированными «ликами» времени : «Ты меня не знаешь, мой милый друг, – сказала она мне ласково, - мы сестры. Я называюсь Прошедшее ; имя средней сестры, которая подарила тебе розу, Настоящее , а младшей – Будущее; иначе называют нас: Вчера , Ныне , Завтра . Мы неразлучны; тот, кого полюбит одна, становится любезен и другим; противный одной, необходимо должен быть противен и прочим» [Жуковский, 1954. С. 485].
Подобный спасительный свет гармонического сочетания времен освещает все поэтическое пространство пьесы «Три сестры» А. П. Чехова. Автор в этом плане буквально «обрушивает» на зрителя и читателя глобальные проблемы времени и связанного с ним пространства. Рассуждая о будущем «счастье» людей, Вершинин в пьесе Чехова «Три сестры» сознательно оперирует, по воле автора, конечно, такими глобальными временными понятиями, которые переводят разговор в метафизический план, соединенный с религиозно-этической проблематикой всей пьесы в целом. Вершинин утверждает целесообразность жизни трех сестер – Маши, Ольги и Ирины, которые презентуют, как и у Жуковского, три временных ступени: прошлое, настоящее и будущее. В про- виденциальном плане они являются указателем пути к «светлому будущему» человечества.
Жуковский соединяет в своих размышлениях различные времена, давая пророческие рекомендации относительно «интеграции» времен на пути к счастью отдельной личности и, очевидно, всего человечества. Он формулирует это следующим образом: «Дружась с сестрой моей Ныне , ты приготовишься любить и меня (прошлое. – В. О. ) и сестру мою Завтра ; наступит, наступит время, когда почувствуешь, что дружба наша для тебя необходима – желания и надежды откроются в безмятежной твоей душе, а розы настоящего… никогда не родятся без шипов. Тогда, мой друг… веселая Завтра да будет твоим прибежищем!» [Жуковский, 1954. С. 486].
Такое «соединение» времен на пути к будущему в своем творческом сознании осознавал и Чехов. Он выразил это устами Вершинина, который в «Трех сестрах» принимает прошлое (любит старшую сестру), но громко и безапелляционно предсказывает будущее: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной». И добавляет: «А вы жалуетесь, что знаете много лишнего».
В связи с этим прогнозом возникает вопрос: а нужно ли для этого что-то делать? Вершинин поясняет: «Через двести-триста, наконец, тысячу лет – дело не в сроке, – настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно. Но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее – и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье». Далее следует уточнение: «Мы должны только работать и работать, а счастье – это удел наших далеких потомков».
В этом диалоге ясно проступает озабоченность героев, касающаяся настоящего времени с его неизменной прагматикой, в которую вписываются духовные движения и порывы действующих лиц. Но воспроизводя повседневную жизнь, Чехов предлагает режиссеру и исполнителям насытить диалог неким вечным смыслом. Следует обратить внимание, прежде всего, на два момента в данном диалоге: на характер времени, в границах которого, по мнению персонажей, должно быть осмыслено бытие человека, и на средство обретения этого смысла.
Очень показателен отмеченный драматургом хронологический диапазон, в границах которого жизнь может проявить свой глобальный смысл. Как минимум, это 200– 300 лет. Такой исторический отрезок времени можно еще себе вообразить, хотя и с трудом. Но в устах чеховских героев звучит уже совсем «фантастическая» цифра – 1 000 лет. По сути, это знаковая цифра переводит реальное историческое время в «апокалиптическое», связанное с предсказанием «тысячелетнего Царства Христа». Конечно, историзм в этой сакральной цифре присутствует, но символический смысл становится доминирующим: ведь можно было назвать и пятьсот лет, и семьсот. Однако Чехов настоятельно подчеркивает именно это сакральное число. Деталь такого рода меняет тональность всех диалогов и монологов, которые относятся к разряду рассуждений о смысле и назначении человеческой жизни.
Текст «Трех сестер» предстает перед читателем и зрителем как «мистериальная» драма, в которой временные категории играют «заданные» им роли. Каждая эпоха начинает обретать свой ценностный смысл. Его при этом нужно выделить и определить с точки зрения гуманитарной ценности. Апокалиптический оттенок «будущего времени», проявляющийся в тексте пьесы, подсказывает, что за поверхностью будничной жизни кроется глубочайшая драма или даже трагедия личности. Эту версию в первом же действии пьесы подбрасывает Вершинин, который рассуждает так: «И интересно, мы теперь совсем не можем знать, что будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным». Тузенбах ему на это отвечает: «Кто знает? А быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем столько страданий». Надо полагать, что автор с этим лукаво соглашается.
Чеховская драма и строится на такой концепции, которая осмысливается с точки зрения апокалиптического прогноза Иоанна Богослова. Единство временных уровней, провозглашенное в свое время Жуковским, проступает у Чехова в утверждении органичного единства хронологического ряда: Прошлое, Настоящее, Будущее. Эти категории встраиваются Чеховым в сакральную перспективу, определяемую намеком на текст Апокалипсиса и ведущую в тысяче- летнее «Царство Христа». В этой художественной атмосфере размываются революционные идеи чеховской эпохи, заменяясь в авторском подтексте «Русской идеей», утверждаемой, по мнению славянофилов, «народом-Богоносцем».
«Христианское время» в историческом движении православно-христианской России попытался представить и истолковать еще В. А. Жуковский, когда он приступил к разъяснению смысла своей притчи «Три сестры». Он пишет философско-аллегорический очерк «Три пояса». В свете этого исто-ризированного очерка исчезают скепсис и «страхи» перед грядущими столетиями и тысячелетием. Время стремительно бежит, и Апокалипсис совершается как бы повседневно. То, что будет через сотни лет, по сути, в том же хронологическом измерении уже прошло. Прошли столетия, и даже тысячелетие со времени Крещения Руси. И ничего особенного и катастрофичного в этом не обнаружилось. В. А. Жуковский погружает читателя «Трех поясов» в атмосферу бытия Киевской Руси эпохи Св. князя Владимира. А это уже период тысячелетней давности, «открываемый» Жуковским в нашем русском прошлом. А «будущее тысячелетие» в наблюдаемом процессе прогнозируется уже Чеховым в пафосном монологе Вершинина.
Три пояса в притче Жуковского связывают в логическое целое временные ступени будущего. Это, по сути, именно те «три столетия», которые прогнозируются чеховским Вершининым. Таким образом, две притчи (притча-аллегория и притча-сказка) Жуковского спрогнозировали появление исторической «мистерии» «Трех сестер» в драматургическом репертуаре А. П. Чехова.
В этой жизни, в этом «космическом пространстве», которое трактуется Жуковским и Чеховым как динамическое целое, как залог преодоления земной «скуки», закономерно возникает вопрос: «Что делать?». Это, как мы знаем, традиционный вопрос, на который Чехов пытается дать не столько философский, сколько практический ответ-рекомендацию, как это свойственно классической притче. Как и Жуковский, Чехов-драматург предлагает «заняться делом», подчиняясь мировому закону бытия. Но обыденное «дело» должно быть сакрально ориентировано. Оно должно быть процессом «сотворения Духа». Мысль эта является логичным продолжением сказки Жуковского «Три пояса» и «подсказкой» того, что нужно «делать».
По мнению богословов, земное бытие обнаруживает свой смысл только благодаря тому, что в нем проявляется Божественная воля. С. Булгаков, трактуя Апокалипсис, пишет: «История же, как она изображается в Апокалипсисе, есть богочеловеческое свершение, в котором соединяются судьбы человеческие с деяниями и явлением Христа в мире». Далее Булгаков добавляет: «История продолжается как продолжающееся и совершающееся воцарение Христа в мире» [Булгаков, 1991. С. 350, 351]. С. Булгаков подчеркнул также, что Апокалипсис представляет собой «мистическое зеркало» судеб человеческих.
Разумеется, Чехов не дает развертку тех положений, которые выдвигает богослов и философ С. Булгаков. Писатель лишь резонирует на те религиозно-философские споры, которые развертывались в его время. Знаковая «апокалиптическая» цифра (тысяча) является и своеобразной ссылкой на священный текст, и вместе с тем показателем направленности авторской мысли, в русле которой должен осмысливать все изображенное в пьесе читатель и зритель.
Авторский «хронотоп» – сочетание времени и пространства – имеет сакральный смысл, который Чехов подчеркивает не просто как теоретическую идею, но и как реально-историческое движение России к «целевой установке» – воплощению национальной «Русской идеи». «Соединение времен» в концепции В. А. Жуковского выступает в системе художественных сцеплений А. П. Чехова как целостный «образ бытия в вечной мысли Бога», если воспользоваться терминологией религиозного философа Вл. Соловьева. Объективно авторская идея в пьесе «Три сестры» направлена на художественное решение этой проблемы.
Те структурно-поэтические элементы, о которых говорилось ранее, не исчерпывают всего арсенала художественных средств, привлекаемых Чеховым для разрешения вопроса о смысле жизни в бытовом и метафизическом планах. Сгущение смысла можно наблюдать и в контекстуальном обыгрывании слова «Москва», как географической цели, входящей в понятие чеховского «хронотопа». Москва для сестер в бытовом плане – отдушина, спасительное место от всех неприятностей провинциального захолустья, от давящей серой «скуки», которая угрожала еще романтическому сознанию В. А. Жуковского. Но Москва в контексте драмы Чехова представляет не просто некий абстрактный образ, повторение которого создает не очень серьезную психологическую атмосферу, но является понятием, сублимирующим различные составляющие, которые формируют социально-исторический и культурно-психологический облик России, что связано с определением самой сущности «Русской идеи».
В свое время А. С. Пушкин в романе «Евгений Онегин» в емкой поэтической форме определил значение Москвы для русского человека:
«Москва… как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем отозвалось!»
Система эпиграфов к седьмой главе романа подкрепляет и дополняет пушкинскую мысль. Определяя значение Москвы в аспекте русского национально-патриотического сознания, Пушкин ассоциативно связывает древнюю столицу с древней Русью, с бескрайней русской провинцией. Столица Руси в трактовке поэта становится «деревенской столицей». Пушкин в этом плане даже поиграл словами. В эпиграфе ко второй главе романа автор приводит восклицание Горация «О rus!» («О деревня!») – и тут же появляется русский фонетический аналог «О Русь!». Реплики чеховских сестер ориентированы автором в сторону аналогичного расширения смысла названия старшей столицы русского государства. При этом происходит поворот мысли драматурга в сторону национальной идеи, которая в то время живо обсуждалась в среде русской интеллигенции.
В конце XIX – начале XX в. обострились споры о наследовании истинно православной культуры и о роли России в этом процессе. В свое время Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 г. активно обсуждал «славянскую» идею, которую он противопоставлял католичеству и протестантизму. «А между тем на Востоке, – отмечал писатель, – действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея – идея славянская, идея нарождающаяся, – может быть, третья грядущая возможность разрешения судеб человеческих и Европы» [Достоевский, 1983. С. 9].
Эта идея, как известно, возродила интерес к концепции «Москва – третий Рим» [Синицына, 1998]. Проблема «Третьего Рима» оказалась весьма дискуссионной и в спорах активное участие принимал Вл. Соловьев. Для Чехова он был весьма заметной фигурой, влиявшей на духовную атмосферу эпохи. В этой атмосфере и «Москва» обрела особый знаковый смысл. Вот почему настойчивые порывы чеховских сестер уехать в Москву и занять там свою законную жизненную нишу не могли не быть прочитаны в соответствующем идейно-художественном ключе. Религиозная основа споров о Москве – «Третьем Риме» выводила тему Москвы (а с нею и тему «трех сестер») на вселенский уровень, который в пьесе формировал своеобразный «мистериальный» план, включавший и все «подтекстовые» структурнопоэтические элементы, которые Чехов охотно использовал в своих драматургических произведениях.
«Мистериальный подтекст» создавал напряженное духовное поле, которое компенсировало внешнюю забытовленность и статичность сюжета. Именно мистериальность и создает духовный «подтекст», который, говоря словами Вяч. Иванова, переводил «родное» во «вселенское». Возникал оригинальный «хронотоп», который создавал и создает трудности для режиссеров-постановщиков. В теоретическом плане это выглядит так: апокалиптическое тысячелетие указывает во временном плане на Царство Христа, а «Москва» как маяк, указывает на «истинное православие», ведущее тоже в Царство Христа. «Время» и «пространство» сливаются в единой философско-богословской концепции, начало которой в своих «Трех сестрах» заложил, как уже отмечено, В. А. Жуковский.
Список литературы Тема "трех сестер" в идейно-художественной концепции В. А. Жуковского и А. П. Чехова: исторический "диалог"
- Булгаков С. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования. М., 1991.
- Долгушин Дм. Притча в творчестве В. А. Жуковского // Притча в русской словесности: от средневековья к современности: Коллект. моногр. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. С. 252-268.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25.
- Синицына Н. В. Третий Рим. История и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). М.: Индрик, 1998.
- Жуковский В. А. Соч. М.: ГИХЛ, 1954.
- Крюков В. М. След птицы-тройки. Другой сюжет «Братьев Карамазовых». М.: Памятники исторической мысли, 2008.