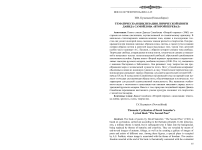Тематическая циклизация лирической книги Давида Самойлова "Второй перевал"
Автор: Кузнецов Илья Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Михаилу Николаевичу Дарвину
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
Книга стихов Давида Самойлова «Второй перевал» (1963) построена на основе циклизации, осуществляемой по тематическому принципу. В начальных стихотворениях заявлена военная тема, однако в последующих текстах она уходит на второй план, сменяясь темами зрелости и творчества. Они раскрываются при помощи сквозных образов осени, листвы, а также путем создания галереи образов поэтов и деятелей искусства разных эпох. Среди этих деятелей особое место занимает А.С. Пушкин, с образом которого связана тема свободы. Творческая свобода, утверждаемая в конце книги, тематически связана с показанной в начальных текстах экзистенциальной свободой, обретенной самойловским поколением на войне. Лирика книги «Второй перевал» продолжает и переосмысливает наследие русского модерна, особенно позднего (1940-50-е гг.), связанного с именами Пастернака и Заболоцкого. Она развивает тему творчества как преображения мира и человеческой сущности поэта. Поэт у Самойлова возвращает обыденным словам их исконную сущность и силу. Тематические переклички и реминисценции связывают лирику сборника с русской классической поэзией XIX -начала ХХ вв. В осмыслении Самойловым пушкинской темы на первый план выходит этическая составляющая образа поэта, обеспечивающая эстетическую, что характерно для русской художественной ментальности. Все названные особенности вкупе с тяготением к циклизации как таковым связывают лирику поэта с традицией русского модерна. Вместе с тем, присущее позднейшей лирике Давида Самойлова переживание настающего упадка культуры соединяет его творчество с эпохой постмодерна.
Давид самойлов, "второй перевал", циклизация, тематика, война, зрелость, осень, творчество
Короткий адрес: https://sciup.org/149141249
IDR: 149141249 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-35
Текст научной статьи Тематическая циклизация лирической книги Давида Самойлова "Второй перевал"
Циклический способ бытования в значительной степени свойствен русской лирике XX в. Опробованная уже в пушкинскую эпоху, форма цикла оказалась адекватной мышлению и самовыражению художника именно в культуре модерна. Ведь поэт-модернист ощущает себя актером на подмостках, так что вся жизнь его есть сцена и искусство. А если так, то всякий его художественный жест обретает смысловую завершенность лишь в связи с многообразием других проявлений его творческой личности, которая сама по себе оказывается парадигмой его творчества. В какой-то мере все творчество поэта-модерниста представляет собой цикл - как разновидность герменевтического круга, обеспечивающего восприятие. Но такая предустановка принадлежит к области «расширенной художественной впечатлительности», по удачному выражению Д.С. Мережковского [Мережковский 1988, 51], то есть к компетентности читателя-модерниста. Поэт же на практике сознательно объединяет свои стихотворения в авторские циклы, тем самым создавая герменевтические круги поуже, внутри которых его режиссура восприятия действует с максимальным эффектом.
М.Н. Дарвин отметил: «Существует немало поэтических циклов, которые составлялись авторами из стихотворений, написанных в разные годы и по разному поводу» [Дарвин 1988, 18]. Сборник Давида Самойлова «Второй перевал», о котором пойдет речь в настоящей статье, принадлежит именно к такой разновидности цикла. «Второй перевал» соединил тексты и фрагменты, написанные в разное время конца 1950-х - начала 1960-х гг. и порой с разными задачами. Однако целостность сборника не формальная, она создается за счет образно-тематических скреп, присутствие и роль которых мы надеемся показать ниже.
***
Давид Самойлов принадлежал к военному поколению русских поэтов. С 1938 г. он учился в МИФЛИ, а в 1941 г. было опубликовано первое его 36

стихотворение «Охота на мамонта». Однако учебу Давида Самойлова прервала война. С 1942 г. поэт находился на фронте, с небольшими перерывами, вызванными ранениями, участвовал в боях, и дошел с советской армией до Берлина. После войны Самойлов вернулся к литературному творчеству, однако на протяжении долгого времени свои новые произведения не обнародовал, считая их незрелыми. Только в 1958 г. был опубликован первый сборник поэта, который назывался «Ближние страны». Потом Самойлов печатал детские стихи, а в 1963 г. выступил со вторым сборником, получившим знаковое название «Второй перевал».
Этот сборник представляет собой несомненное смысловое и интонационное целое. Название «Второй перевал» как бы двоится: с одной стороны, это вторая поэтическая книга автора, с другой - содержание стихотворений свидетельствует о том, что этот нынешний период своей жизни сам поэт воспринимает как второй жизненный перевал. Первым перевалом была война, а второй наступает сегодня. И содержание нынешнего «второго перевала» раскрывается в лирике нового самойловского сборника.
Интонацию сборника задает поставленное в его начале стихотворение «Сороковые, роковые». Критика сразу заметила, что это военное по содержанию стихотворение лишено какого бы то ни было мрачного чувства. Война у Самойлова «осталась символом этой легкой, просторной, светлой, почти веселой свободы» [Аннинский 1978, 172]. Поэт говорит о необычайном моменте в собственной жизни и в истории страны, на который пришлась его молодость:
Как это было! Как совпало -Война, беда, мечта и юность! И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось [Самойлов 1989, 55].
Эта строфа создает смысловое основание сборника. В ней поэт идентифицирует себя как человека военного поколения, чьи лучшие юношеские годы оказались опалены войной. Война была - но она не отменила юности: в жизни самойловского поколения «совпали» «война, беда, мечта и юность». Но слова «это все в меня запало / И лишь потом во мне очнулось» поэт произносит уже голосом сорокалетнего человека. Теперь он понимает, что военные годы с их неприкрытой правдой установили его жизненную оптику на все оставшиеся времена. И предпосылая сборнику стихотворение «Сороковые, роковые», поэт задает угол зрения, с которого нужно воспринимать все, что звучит в книге далее. Ряд следующих стихотворений сборника непосредственно развивает военную тематику: «Старик Державин», «Слава Богу! Слава Богу!», «Перебирая наши даты», «Деревянный вагон».
Надо заметить, что чувство правды и радостной свободы, парадоксально пришедших с войной, поэт разделял с целым рядом своих старших современников и ровесников. Из старших это, к примеру, Ольга Берггольц:
«Такими мы счастливыми бывали, / такой свободой бурною дышали, / что внуки позавидовали б нам» [Берггольц 1983, 230]. Или Борис Пастернак: «И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки, и несли облегчение» [Пастернак 1989, 490]. Да и у Самойлова эта мысль повторяется - в стихотворении «Если вычеркнуть войну»: «Ведь из наших сорока / Было лишь четыре года, / Где прекрасная свобода / Нам, как смерть, была близка».
В художественном пространстве стихотворения «Сороковые, роковые» автором выразительно соотнесены две координаты: полустанок и белый свет. Сначала герой говорит, что он стоит «на полустанке», а потом уточняет, что «это я на белом свете». Затем это слово «свет» (в значении «весь свет», «белый свет») повторяется у поэта еще раз - когда он говорит: «и все на свете понимаю». Прием смещения координат (планов) по происхождению, скорее всего, кинематографический, на что справедливо указал В.С. Баевский: «В начале “Сороковых” камера панорамирует, выхватывая детали: извещения похоронные, погорельцы кочуют с запада к востоку. <...> Крупный план: а это я на полустанке. Деталь: в моей замурзанной ушанке. Деталь: где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Средний план: и я с девчонкой балагурю... Все очень кинематографично» [Баевский 1986, 108]. В результате использования этого приема малые детали по смыслу укрупняются, будучи показанными в перспективе всего белого света.
В.С. Баевский заметил также, что по сравнению с первым сборником во «Втором перевале» у Самойлова появился «суггестивный, “внушающий” стиль, воздействующий не только основными, но в значительной мере второстепенными значениями лексем» [Баевский 1986, 107]. Так, «сороковые роковые» - это, конечно, паронимия; но соединенные ею у Самойлова слова не безразличны друг другу в смысловом отношении. Число «сорок» в архаике многих народов обладает сакральным символическим значением, так что его связь с «роком», «роковым» началом совершенно законна. Притом у Самойлова от «сороковых» тянется и другая смысловая нить: не только к войне, а и к своему нынешнему возрасту, поре зрелости. Так война (1940-е) и нынешняя обретенная зрелость оказываются соединенными через символику числа, и стихотворение с этим смысловым комплексом по праву открывает сборник.
Другое стихотворение раскрывает прямой смысл заглавия сборника: «Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал...» Словосочетание «сорок лет» в ряде стихов текста находится в анафорической позиции, что укрупняет его смысл. Самойлов стал известным поэтом уже не в молодые годы: и первый, и второй сборники выходят около его сорокалетия, сравнявшегося в 1960-м, когда он создал это стихотворение. Вспоминая первый, военный «перевал», поэт говорит: «Взял один перевал - одолею второй», - и задумывается: «Где-то будет последний привал?» [Самойлов 1989, 60]. В этом стихотворении словосочетание «второй перевал» связы-
вается главным образом с биографией, с серединой жизненного пути.
Содержание жизненного перевала вполне раскрывается в стихотворении «Красная осень» [Самойлов 1989, 82]. Рассмотрим это стихотворение сквозь призму методики анализа, предложенной М.Л. Гаспаровым [Гаспаров 1997]. Она опирается на представление о том, что в строении всякого текста можно выделить три уровня: 1) идейно-образный, содержащий два подуровня: а) идеи и эмоции, б) образы и мотивы; 2) стилистический, подразделяемый на а) лексику (прежде всего тропы), б) синтаксис; 3) фонический, включающий а) явления стиха, б) явления звукописи.
На уровне звукописи стихотворение насыщено упорядоченными ассонансами и аллитерациями. Так, в первом стихе опорным гласным является [А], согласные же на протяжении строфы варьируют звуковой комплекс [КРС - КРЛ - ЛСТ - СРД - РСК]. Эти звуковые сочетания сохраняют роль опорных на протяжении всего текста, периодически «вспыхивая» в дальнейших строфах: «оКРеСТный», «оТСвеТ», «пРАЗДниК», «благоРоД-СТве», «ЗаКАТ», «пеРеРоДиЛаСь». Особое место в сонорике занимает заключительный стих, вокализм которого основан исключительно на звуке [А]: «и Я по ней шагАю наугАд». Почти все опорные звуки связаны с ключевым словом «красный», развивают его звуковую форму.
На уровне стиховой организации особенностью текста является экзотическая форма обращенного сонета. На уровне синтаксической организации весь текст представляет собой три изоморфных периода с одинаковой синтаксической структурой. Каждый период - сложное предложение, состоящее из главного и сравнительного придаточного. Главное открывается обстоятельством «внезапно», а придаточное вводится союзом «как будто». Два первых периода совпадают со строфами-терцетами, а третий период охватывает оба катрена, и он расширен: в него введен дополнительный образно-тематический материал от стиха «Светился праздник листьев и небес» до союза «как будто», восстанавливающего структуру.
В организации лексического уровня выделяется слово «красный», выполняющее роль ключевого. Оно обладает смысловыми оттенками: с одной стороны, «красный» - тревожный, с другой, «красный» - красивый. С опорой на эту цветовую семантику кругозор героя стихотворения расширяется. Сначала он видит «красный лист», потом «красный куст», потом «красным стал окрестный лес», и «облако впитало красный отсвет». И наконец, «это был такой большой закат, <.. .> как будто вся земля переродилась». От маленькой точки в пространстве герой переходит к расширенному, панорамному взгляду на все мироздание.
Важнейшими по смыслу в стихотворении являются также слова «внезапно» и «наугад». Они стоят в начале трех первых строф и в конце всего текста. Значение, которое они в себе несут - неожиданность, спонтанность, открытие. Это значение связывает стихотворение «Красная осень» с мироощущением модернистской эпохи. Ведь поэзия, в теоретическом понимании модерна, - это преображение действительности в чувстве: «Искусство <.. .> должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь»
[Соловьев 1990, 404]. Именно этот момент преображения мира в остром чувстве зафиксирован в состоянии героя стихотворения «Красная осень»: «Как будто вся земля переродилась, / И я по ней шагаю наугад». Это состояние поэта-творца, среди ближайших современников родственное лирике Пастернака и Заболоцкого.
Отсюда можно судить о составе идейно-образного уровня стихотворения. Образные ряды составлены из слов тематических групп «природа» (лист, куст, лес, облако, закат) и «человек» (сердце, уста, праздник, благородство). Личное местоимение «Я» появляется только в последнем стихе, свидетельствуя о перевороте оптики: объективный взгляд меняется на субъективный, в картине одушевленной природы персонализируется фигура героя, своим присутствием обеспечивая эту одушевленность. И это событие - поистине, праздник, как сказано в тексте: праздник обретения зрелости, открытия героем своего подлинного места в мироздании.
Из сказанного видно, что в ряде стихотворений сборника «Второй перевал» устанавливается специфический панорамный взгляд на мироздание. «Сороковые, роковые...» - герой «на полустанке», и в то же время он на белом свете. «Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал...» - герой как бы со стороны смотрит на свой жизненный путь и видит на нем горы, «перевалы». «Красная осень» - взгляд постепенно разворачивается в панорамный. Это особенность поэтического зрения Самойлова в данном сборнике.
Еще одно стихотворение подхватывает из «Красной осени» образ листвы и развивает его в неожиданном направлении: «Дождь пришел в городские кварталы...» Поэт говорит о себе: «уже голова побелела, / И уже настоящее дело / В эти годы во мне началось» [Самойлов 1989, 66]. Речь идет об осени, образ которой интегрирует многие тексты сборника. (Заметим, что следующий сборник, «Дни» (1970), интегрирован образом зимы.) Тема осени и здесь относится вместе к природе и к биографии. В связи с этим осмыслен образ листвы: листва - это синоним «страсти», бурной молодости. И говоря о себе нынешнем, что «уже голова побелела», поэт радуется происходящему изменению в возрасте и начинающейся зрелости. «Вспомним, как были встречены “Второй перевал” и “Дни”, - пишет исследователь. - В названиях откликов и рецензий преобладало одно слово: зрелость» [Баевский 1986, 102]. Герой понимает: в жизни началось настоящее дело. Ведь когда страсть, «как шальная листва», слетает, то обнажается «голый ствол твоего существа»: самое главное, что есть в человеке. Как и в «Красной осени», герой встречает свой зрелый возраст с нескрываемой радостью. Он приветствует уход молодости с ее страстями, и счастлив, что наконец открывается его человеческая сущность. В стихотворении «Дождь пришел в городские кварталы...» он пока еще не говорит, в чем она состоит. Но следующие тексты на этот вопрос недвусмысленно отвечают.
Стихотворение «Слова» тоже открывается образом красиво падающей листвы, продолжая в сборнике осеннюю тему: «Красиво падала листва, / 40

Красиво плыли пароходы...» [Самойлов 1989, 65]. Сентябрь (осень) у Самойлова и здесь «не печальный», а красивый. Поэт приветствует осень своей жизни и заговаривает о самом главном:
И понял я, что в мире нет Затертых слов или явлений. Их существо до самых недр Взрывает потрясенный гений. И ветер необыкновенней, Когда он ветер, а не ветр.
Люблю обычные слова, Как неизведанные страны. Они понятны лишь сперва, Потом значенья их туманны. Их протирают, как стекло, И в этом наше ремесло.
Вот в чем заключается то самое «настоящее дело»: в поэтическом творчестве. Этот мотив в сборнике «Второй перевал» биографичен, потому что именно теперь Самойлов по-настоящему входит в литературу. Поэт связывает в единый смысл наступление своей зрелости и осознание правильного отношения к слову, произнося личностный и поэтический манифест: «Понял я, что в мире нет / затертых слов или явлений».
Такая декларация Давида Самойлов прямо «вырастает» из эстетики позднего русского модерна (1940-50-е), который отошел от прежнего формального эксперимента и обратился к простоте ясных словарных слов. Затертых слов не существует: «Их существо до самых недр / Взрывает потрясенный гений». Налицо пастернаковское представление о природе творчества: «Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения» [Пастернак 1990, 72]. В основе искусства лежит сильное чувство; оно потрясает мир, и он преображается, а вместе с ним обновляются слова. Поэтому не нужно искать экзотических высоких слов: ветер - необыкновенней, когда он ветер, а не ветр (в духе «высокого штиля»). Поэт должен проживать слово изнутри, вскрывая его неочевидные значения («как неизведанные страны»). Обновлять слово, возвращать жизнь потускневшему слову - таков, по Самойлову, смысл поэтического «ремесла».
Характерное определение поэзии как «ремесла» побуждает вспомнить стихотворение Николая Гумилева, которое так же называлось - «Слово». Поэт говорил о начале времен, когда «Солнце останавливали словом, / Словом разрушали города» [Гумилев 1990, 342] - слово обладало магической силой, им творился мир. Но концовка гумилевского стихотворения пессимистична. Слово лишилось своей могучей силы, потому что люди о ней забыли: «Мы ему поставили пределом / Скудные пределы естества, /
И, как пчелы в улье опустелом, / Дурно пахнут мертвые слова». Самойлов же, возвращаясь к гумилевской тематике, развивает ее оптимистически. Он говорит, что ремесло поэта - «протирать» слова, возвращая им исконное значение и силу. Ранняя лирика Самойлова явно опирается на модернистскую традицию, давая новое звучание пришедшим оттуда темам.
К середине сборника тема поэтического творчества утверждается как главная в книге. Творчество у Самойлова - нелегкий труд (ср. стихотворения «Атланты», «Вдохновение»), В сборнике много текстов, посвященных деятелям искусства разных эпох: это «Старик Державин», «Дворик Мицкевича», «Заболоцкий в Тарусе», «Матадор» (навеянное «творческим обликом и литературным путем Евтушенко» [Баевский 1986, 109]), «Рембо в Париже», «Шуберт Франц». Особое место среди художников занимает образ А.С. Пушкина. Пушкинская тематика вообще была важной в творчестве Давида Самойлова от ранних лет до самых поздних стихов. В этом отношении ориентация на классика была у Самойлова не только и не столько стремлением к поэтическому образцу, сколько стремлением к образцу самой личности Пушкина. Потому что поэзии без личности не бывает, в русской литературе во всяком случае. И для Самойлова примером была именно личность Пушкина в его уникальной, неподдельной творческой свободе. В стихотворении «Болдинская осень»: «Везде холера, всюду карантины, <...>/ Но почему-то сны его воздушны» [Самойлов 1989, 84]. Карантины, осенью 1830 г. запершие Пушкина в Болдине, противопоставляются его «воздушным снам и легким рифмам». Самойлов восхищается тем, как Пушкин умеет «Быть, хоть ненадолго, с собой в согласье, / И поражаться своему уму»; и радостно осваивает его состояние: «Благодаренье Богу - ты свободен - / В России, в Болдине, в карантине».
Написанные в начале 1960-х гг, эти строки не лишены вызова, потому что тогдашняя Советская Россия определенно не была свободной страной. Проецируя настоящее на прошлое, Давид Самойлов (как позже Довлатов в «Заповеднике») обращает слова «ты свободен» и к самому себе. Конечно, речь идет о внутренней свободе уединенного духовного делания художника, составлявшей приоритет для поэтов позднего русского модерна (Пастернак, Заболоцкий, Пришвин): у Самойлова получает продолжение именно этот пафос. Эта ориентация на классику, отчасти романтизированную, была у Самойлова общей среди современников с Булатом Окуджавой. Классика, а главное, классики, - это для них прежде всего этически совершенный мир: люди, которые правильно себя в жизни вели, оттого было правильным и их творчество.
Сборник Давида Самойлова «Второй перевал» развивает традицию позднего модерна в русской поэзии. Значит ли это, что поэт не чувствовал своей постмодерной эпохи? И.О. Шайтанов считает, что «поэтом эпохи постмодерна Самойлов не был» [Шайтанов 2007,236], несмотря на обилие реминисценций и прямых цитат в его творчестве (Шайтанов даже назвал статью о Самойлове словом «Палимпсест»), Это верно, поскольку критик противопоставляет Самойлова концептуальной поэзии с ее ценностным и
онтологическим релятивизмом. «Цитирование в самойловском случае - не результат взрыва, <...> а приглашение к восстановлению. Осколки свидетельствуют не о том, что целого уже нет и скорее всего никогда не было, а о том, что оно все еще присутствует в культуре, что оно отзывается и узнавание его - это и есть цель культурного, в данном случае поэтического деяния» [Шайтанов 2007, 236]. Тем не менее Самойлову было присуще постмодерное чувство кризисности своего времени, неполной состоятельности своей эпохи - а значит, и себя самого как героя этой эпохи. У поэта есть стихотворение, которое обыкновенно датируется 1966-м - годом смерти Анны Ахматовой: «Вот и все. Смежили очи гении. / И когда померкли небеса, / Словно в опустевшем помещении / Стали слышны наши голоса...» [Самойлов 1989, 212]. Оно очень точно «попадает» в свою эпоху. Голос Самойлова в нем прямо перекликается с голосом его младшего современника Иосифа Бродского, который буквально в те же годы сказал про себя: «Гражданин второсортной эпохи, гордо / признаю я товаром второго сорта / свои лучшие мысли» [Бродский 1994, 276]. Это и есть мироощущение постмодерного человека, в Советской России еще усиленное специфическими общественными обстоятельствами, и Давиду Самойлову оно было знакомо наряду с его современниками.
***
Обобщим образно-тематические элементы, способствующие циклизации сборника Давида Самойлова «Второй перевал». 1. Сборник «Второй перевал» - это портрет творческого человека своего поколения. Он открывается военной темой в стихотворении «Сороковые, роковые...», и эта тема становится призмой, организующей восприятие всего сборника. Поэт позиционирует себя как человека, в судьбе которого «война, беда, мечта и юность» сплавились историей в единое неразделимое целое, сформировав чувство веселой свободы. 2. Панорамный взгляд на мир задается уже в стихотворении «Сороковые, роковые...» и проходит через ряд других текстов сборника. 3. Символика числа «сорок» связывает военную и биографическую темы. 4. Сквозной образ листвы: свою зрелость и даже свое приближающееся старение, свою осень жизни поэт передает при помощи этого образа, сравнивает листву со страстями, радуется тому, что эта листва с него облетает, обнажая «первооснову» его человеческого существа. 5. Тема творчества: этой первоосновой является именно творчество, конкретно говоря - поэтическое творчество. 6. Утвердившись в этой теме, Давид Самойлов разворачивает в дальнейших стихотворениях сборника ряд образов творцов, художников, поэтов, обращая особое внимание на фигуру А.С. Пушкина, образцовую как для самого Самойлова, так и для большинства поэтов его поколения. 7. Идентифицируя себя с Пушкиным, поэт утверждает в себе его внутреннюю свободу духовного делания. Тема творческой свободы, развернутая во второй половине и особенно в конце книги, перекликается с темой «военной свободы», заявленной в начале сборника.