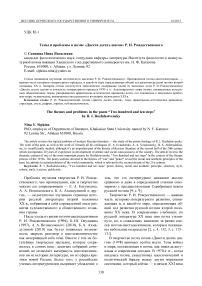Темы и проблемы в поэме «Двести десять шагов» Р. И. Рождественского
Автор: Сипкина Нина Яковлевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 10, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению поэтического наследия Р. И. Рождественского. Произведения поэта-«шестидесятника» - важная часть историко-литературного процесса, в какой-то мере определяющая общий ход развития русской поэзии второй половины ХХ в. Автором статьи исследуется тематическое содержание одной из значимых поэм Р. И. Рождественского «Двести десять шагов» в контексте литературного процесса 1970-х гг. Анализируются главы поэмы, посвященные актуальным общественным темам, раскрываются нравственно-эстетические принципы поэта, его отношение к насущным проблемам мира, человечества, являющимся актуальными и во втором десятилетии XXI в.
Р. и. рождественский, поэма "двести десять шагов", тема, нравственно-эстетические принципы, структура, стиль, рефрен, лиризм, публицистичность
Короткий адрес: https://sciup.org/148182652
IDR: 148182652 | УДК: 82-1
Текст научной статьи Темы и проблемы в поэме «Двести десять шагов» Р. И. Рождественского
Проблема изучения творчества Р. И. Рождественского, чьи произведения, как и творчество многих его современников — Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной и других, — недостаточно изученная страница истории русской литературы второй половины ХХ в., вобравшая в себя сорокалетний опыт развития художественного и общественного сознания страны.
После ухода из жизни поэтов-шестидесятников Р. И. Рождественского (1994), Б. Ш. Окуджавы (1997), А. А. Вознесенского (2010), Б. А. Ахмадулиной (2010) как будто появилась возможность закрыть разговор о шестидесятничестве как исчерпавшей себя теме. Вместе с тем их богатейшее творческое наследие, которое сохранилось в сотнях книг, десятках собраний сочинений, не позволяет вычеркнуть шестидесятников ни из истории литературы, ни из сферы критики новой России. Более того, у российских ученых-литературоведов вызревает убеждение о том, что это литературное движение вполне сравнимо и даже в определeнной степени соизмеримо с предшествующим Серебряным веком русской поэзии [9, с. 9].
Творчество Р. И. Рождественского — важная часть историко-литературного развития, совпадающая и, в какой-то мере, определяющая общий ход развития русской поэзии второй половины ХХ века. В современных учебниках по русской литературе ХХ века имя поэта упомянуто, но, к сожалению, выведено за рамки списка поэтов-шестидесятников, которым посвящены небольшие подразделы [2, с. 4, 132; 3, с. 115– 131].
В творчестве поэта поэма «Двести десять шагов» (1978) занимает особое место. Тема войны и мира, поставленная в поэме, как никогда актуальна и современна сегодня. В 1970-е гг., когда писалась поэма, существовал идеологический и политический барьер между двумя мировыми системами, который сейчас — в начале XXI века видоизменился, но не исчез и даже обострился. Нашему земному дому сегодня грозит беда: суперсовременные ядерные и водородные бомбы в течение нескольких минут могут уничтожить человеческую цивилизацию и все живое на земле. Проблема существования человека, природы, мира всегда волновала писателей России. Она звучала и звучит в прозе В. Распутина, поэзии Е. Евтушенко, в творчестве современных авторов, которые убеждены, что в третьей мировой войне победителей не будет.
В статье «Шаги истории: за строкой поэмы» (1978) Р. И. Рождественский раскрывает причину постоянного возвращения к военной тематике, памяти о ней в своих стихах и поэмах: «Хотя сам я не воевал, но о войне писал довольно много. В “Реквиеме”, созданном полтора десятилетия назад, я пытался выразить тогдашнее свое понимание этой высокой темы. Но память — не нечто застывшее, она взрослеет вместе с человеком. Приходит, может быть, не другое, но несколько иное понимание событий, связи их с сегодняшним днем. Можно сказать, что память с годами углубляется...» [8, с. 3].
А в беседе с В. Жегисом в 1980 г. на вопрос, какая тема главная для поэта, Р. И. Рождественский ответил: «Говорят, что самые сильные воспоминания — это воспоминания детства. Для меня оно совпало с войной. И хотя я не слышал свиста пуль и разрыва бомб, все равно дыхание войны опалило мою душу. Память возвращает меня в далекие годы. Вот я стою на затемненном вокзале, провожая на фронт отца. И не нахожу нужных слов на прощание. Вот вместе с матерью, военным врачом, я, “сын полка” и страшно гордый своим необычным званием, еду из Омска, где перед войной жила наша семья, в Москву. Вот я курсант военно-музыкального училища, шагаю в шеренге по улицам столицы. И далеко разносятся наши голоса под звуки воинского марша. Помню молчаливые очереди у хлебных магазинов. Шаркающие по лестнице шаги старенького почтальона (что у него в сумке — радость или беда?). И постоянное ожидание Победы» [1, с. 3].
Военной теме войны посвящена глава «Война» в поэме «Двести десять шагов», написанная в жанре баллады. Перед читателем разворачиваются история краткой жизни и бессмертного подвига, первый и последний бой «новоиспеченного» лейтенанта: « Было училище. / Форма — на вырост. / Стрельбы с утра. / Строевая — зазря... / Полугодичный ускоренный выпуск. / И на петлице — два кубаря ...» [7, с. 169; далее ссылки на это издание даются в круглых скобках].
В содержании главы «Война» можно различить автобиографические черты — автор поэтизирует детские воспоминания о «путешествии» из Омска в Москву в военном эшелоне с мамой Верой Павловной, военврачом. Они едут очень медленно, подолгу останавливаясь на каждой станции: « Шёл эшелон /по протяжной /России, / шёл на войну, / сквозь мельканье / берез » (с. 170).
В образе молодого лейтенанта-мальчишки можно узнать черты и самого поэта-подростка: «... он по дороге взрослел — / этот мальчик — / тонкая шея, / уши торчком./ Только во сне, оккупировав полку / в осатанелом / табачном дыму, / он забывал обо всем / ненадолго ...» (с. 170).
В представлении автора поэмы война — это катастрофа. На протяжении всей главы перед читателями разворачивается картина трагедии: « Шел эшелон. / А навстречу, навстречу — / лишь санитарные поезда ...»; «... Воздух наполнился громом, / гуденьем. / Мир был изломан, / был искажен .») (с. 171). Строки « Станции / как новгородское вече »; « Полночь / была, как курок / взведена .»; « Будто бы эта планета / кончалась / там, / где сейчас наступали / враги! / Будто ее становилось все меньше! ..» — помогают представить нам драматическую, напряженную обстановку «глобального передвижения людского потока», в котором можно легко затеряться, погибнуть.
Ужасы и кошмары войны передаются с помощью образов-метафор: «Мир, / где клокочет людская беда »; « Мир был изломан, / был искажен. .. / Это / казалось ошибкой, / виденьем, / странным, / чудовищным миражом ..»; «Дыбились шпалы! / насыпь качалась! » (с. 170-171). Рефреном-клятвой звучат слова под стук колес вагона в голове лейтенанта: « Мы разобьем их!..» / Мы их осилим!..» / «Мы им докажем! ...» (с. 170).
Интонационное напряжение достигает своего апогея в описании первого и последнего боя «новобранца». Трагична встреча лейтенанта со своей « судьбой-войной », как с « бедой-суженной »: « Танки!!.» / И сразу истошное: / «К бою!....» / Так они встретились: / Он / и Война ...» (с. 171). Страх вызвала эта встреча, « судьбой предназначенная »: «. черный, / растерянный, / онемевший, — / в жестком кювете / лежал лейтенант » (с. 172).
Риторические обращения лирических героев поэмы к молодому командиру звучат как «слово» перед боем к воинам, взывающее к их храбрости в защите самого святого на земле — Ро- дины. Так жертвовали божественным бесценным даром наши далекие и близкие предки-воины, защищая русскую землю от захватчиков. Преодолеть страх перед смертью «просят» лейтенанта (используются образы-символы, приемы перечисления) «дом», «город», «Отечество», «мама », « природа », « незнакомая девчонка », «чемпионы двора по футболу», «Маршал», «крейсер Аврора», «Тельман», «Солнце», «Гагарин », «нерождённые дети»: «Встань, / лейтенант! ..»
Мальчишка - лейтенант « услышал » страстные призывы: « И тогда / встал / лейтенант. / И, шагнув по планете, выкрикнул не по уставу: / «Айда!!. » (с. 174). Просторечная команда «Айда! » показала, что русским воином была преодолена грань страха, отделявшая смерть и жизнь. Он предложил своим бойцам как будто прогуляться в парке отдыха под музыку пуль и бомб.
Гибель лейтенанта — это совмещение временного пространства и « бесконечной тишины»: «Встал лейтенант!.. / И наткнулся / на пулю. / Большую и твердую, / как стена./ Вздрогнул он, / будто от зимнего ветра. / Падал он медленно, / как на распев. / Падал он долго. / Упал он / мгновенно. / Он даже выстрелить / не успел! » (с. 174). Символичен образ «смерти-подвига»: « Чем этот бой завершился — /не знаю. / Знаю, / что кончилась / эта война . Заклинанием звучат слова поэта о необходимости вечной памяти погибшим солдатам: « Мы про них / не вспомним, — / и про нас не вспомнят! ».
В главе явно различима перекличка с поэмой «Реквием» (1960) Р. Рождественского, где в 8-й главе есть строчки: «... И летят облака / над нами. /Приближается время дождей /Нарастающий ветер /колышет / большие хлеба ..» (с. 38), которые продолжаются в поэме «Двести десять шагов»: «. А над домом тучи / кружат-ворожат. / Под землей цветущей / павшие / лежат. /Дождь /идет над полем ...» (с. 175).
С точки зрения интонационного рисунка для главы «Война» характерно сопряжение патетики и лиризма: « Не вспомнят / ни разу. / Никто / и никогда. / Бежит / по оврагу / мутная вода. / Вот и дождь /кончился. /Радуга /как полымя. / А ведь очень / хочется, чтоб и про нас / помнили! » (с. 175).
В упоминавшейся беседе с В. Жегисом Р. И. Рождественский говорил о волнующей его теме: «Это тема Памяти. Она относится, несомненно, к разряду вечных тем и в искусстве, и в жизни» [1, с. 3]. Афоризм: «Память / за прошлое держится цепко» (c. 144), открывает в мо- нологе «Лирическое отступление о школьных оценках» жизненно эту важную для поэта тематику его творчества.
Память о школьных оценок «успевает» и «не успевает» разворачивать картину, по каким «пунктам», «предметам» жизни «не аттестован», отстал лирический герой поэмы. Оценка « не успеваю » превращается в рефрен, помогающий определить драматическое состояние души героя: он страдает от того, что « не успевает » пообщаться с природой (« довериться лесу », « Птицу послушать », « Ветку потрогать »), прочитать книги («Книги / квартиру / заполнили. / Я прочитать их / не успеваю!.. »), выслушать школьного друга (« Школьного друга / нежданно встречаю. / «Здравствуй! /Ну как ты?..» /И — / не успеваю / вслушаться / в то, что он мне / отвечает .»), подумать (« Надо бы / попросту сесть и подумать!... / Не успеваю! »), сделать счастливой любимую женщину («Женщину, / самую лучшую / в мире, сделать счастливой / не успеваю! »), написать главное (« А написать / свои главные строки / не успеваю! » (с. 144-146).
В главе дается оценка жизни лирического героя — неудовлетворительная. Эта одна из немногих глав поэмы, в которой раскрывается «истинное лицо» лирического героя-поэта, задыхающегося от невозможности что-то изменить и в своей, и в окружающей жизни. У него исчезают иллюзии, вера в победу «социализма с человеческим лицом» в нашей стране. В данной главе мы не найдем риторики и деклараций. Трагизм ощущается в каждой стихотворной строчке. «Мрачные» метафоры подтверждают «безнадежность» жизненной ситуации: « Время жалею. / Недели мусолю »; « Вижу / всё больше вечерние / зори. / Утренних зорь / я почти что не помню »; « Книги / квартиру / заполнили »; « Снова ползу / в бесконечную гору, / и от встречного ветра / немею ».
Голоса лирического героя никто не слышит, а собственная жизнь представляется ему чем-то ужасным («В душном вагоне — / будто в горниле »; «Как протодьякон / в праздничной церкви, / голос / единственный / надрываю...»). Героя окружает: «Аэродромный разбойничий рокот»; «Липкий мотив»; «бессмысленно спорю», отсюда и соответствующее настроение «непонятной хандры» («Отодвигаю / и планы и сроки»), лишних действий, ощущаемых нагнетанием глаголов: «довериться», «послушать», «потрогать», «бегу», «подуют», «изнываю»). Неуверенность в душе поэта выражается с помощью тавтологической рифмы («.жить / по-другому! / Но по-другому ..», «Надо бы, / надо бы остановить- ся», «Надо бы / попросту сесть и подумать! / Надо бы. / Надо бы. ») и контраста: («То прибывает, / то убывает», «Разочаровываюсь. / Увлекаюсь», «Сильным бываю. / Слабым бываю », «То улетаю, / то отплываю»).
Жанровая разновидность еще одной «мирной» главы «Нелирическое отступление о дорогах» — публицистический монолог, в котором звучит актуальная тема — состояние дорог в нашей стране. Автор даже утверждает: « Не ищите поэзии / в данной главе! / Не считайте ее / стихами!.. /Не стихи пишу /хриплым криком / кричу. / Не себе / прошу - / для Отчизны / хочу (с. 166). Критик А. Мальгин отмечал эту отличительную черту в творчестве поэта, в том числе и в поэме, — публицистичность. Поэт признавался, что «после опубликования вещи мне пришло письмо из Министерства автомобильных дорог РСФСР, в котором сообщалось, что министр включил эту главку в свой приказ по министерству…» [ 6, с. 19].
В главе можно прочесть несколько афористических высказываний о значении дорог для людей. В одном из них « дорога » символически воплощает человеческую жизнь: « Все когда-нибудь / делают шаг / за порог. /Жизнь у всех - / на дорогах бренных. » (с. 164), в других — образно претворена: «А мечтаю я / о пятилетке дорог » (с. 164); « но в Державе такой, / в Государстве таком / бездорожье — / уже безнравственно! » (с. 166). А заключительный афоризм «... коммунизм / есть / Советская власть / плюс дороги! » (с. 167) претендует уже на роль «новой доктрины» в коммунистической идеологии.
Поэтический стиль главы ироничен. Так, иронично метафорическое описание состояния российских дорог: «... в черноземах / и в глинистой жиже / стонут в голос, / воюют , / ревут ревмя / на конкретных дорогах / машины! » (с. 164). Иронично-драматична ситуация, выраженная с помощью гиперболы: «Даже если какая беда пришла, то доехать / в средине марта / от села одного / до другого села — / Ни рессор не хватит, / ни мата!.. » (с. 165), которая звучит «смехом сквозь слёзы».
Критикуется российское «головотяпство» как особенность менталитета русской власти, начиная со времен «царя-гороха». Данной цели поэт достигает игрой омонимов: « Знаю в слове « до-ро-га » / звенит цена, - / Дорогие нынче / дороги !.. /Ладно, дорого . » ( с. 165).
Глава «Утреннее отступление о Москве» звучит как признание в любви городу-столице. Р. Рождественский признался: «Я очень люблю Москву, с которой у меня с детства много связа- но» [5, с. 21]. Это пейзажная «зарисовка», легкий «набросок» из жизни утренней Москвы. Как сердцебиение, ритмично звучит рефрен, по-игровому представляющий авторские мысли о любимом городе: «Нас у Москвы — очень много. » (с. 175), «Нас у Москвы очень много, / много нас / у Москвы!» (с. 178), а заключительный повтор с его итоговой мыслью уже носит афористический характер: «Нас у Москвы / очень много. / А Москва у нас — / одна» (с. 179).
Еще одним афоризмом: « Город — / всегда диалог / прошлого / с настоящим » (с. 176) — автор доказывает взаимосвязь времени с историей города. Образ дороги также приобретает символический характер: « В городе — / сотни дорог, / вечность / в себе / таящих » (с. 176).
Лирично раскрывается в главе образ города как живого существа. Счастливая картина просыпающегося мирного города: « и задышало метро »; « Вот / добежав, / дотикая, / пробуя голос свой, / полмиллиона будильников / грянули / над Москвой! / Благовест наш / небогатый, / утренний наш набат. »; «... плюхаются / на сковородку / солнечные / желтки!.. »; « Будто гигантский / поршень, / в доме / работает лифт!.. » (с. 175-179).
Глава «Мир», как и глава о дорогах, также имеет публицистический характер. В ней речь идет о большой политической и человеческой проблеме — гонке вооружений и сохранении мира на нашей планете. Р. Рождественский признавался: «…речь действительно идет о нашей общей судьбе, о судьбе всего земного шара… Остановить гонку вооружений стало не только делом чести, но и делом жизни Человечества… Еще несколько лет назад я читал в американском журнале статью какого-то отставного военного. И он, хвастаясь американской мощью, заявлял, что количество ядерных боеголовок, накопленных США, достаточно для того, чтобы уничтожить Советский Союз и весь социалистический лагерь 17 раз! И что, дескать, СССР способен сделать то же самое с Америкой только 12 раз. Вывод, который сделал отставной генерал безумен, как и все его рассуждения: американцы сильнее русских… Но разве для того, чтобы уничтожить человека, не хватит одного единственного раза? И разве можно относиться к этому равнодушно? Защита мира — наш долг, главное дело нашей жизни, наш нынешний Мамаев курган...» [4, с. 3].
Начинается глава парадоксальным умозаключением: «Мы — / жители Земли — / богатыри», которое звучит как «теорема». Далее показывается несостоятельность непосильной тяжести, взваленной на плечи землян. Отсюда сатирические приемы, которые в жанровом отношении придают главе черты памфлетности.
Вновь развивается мысль о сложности, неоднозначности и тяжести жизни Поэт пишет: «… мы тащим тяжесть / на своих плечах... / промчавшихся годов ..». Значение слова «тяжесть» — это ежедневная суетность, бесцельность существования: « пустых надежд / и долгих холодов, / отметины от чьих-то губ / и рук, / нелепых ссор / бессмысленных разлук, / случайных дружб/ и не случайных встреч » (с. 179).
Р. И. Рождественский саркастичен и парадоксален: «... любой из нас / несет пятнадцать тонн (взрывчатки) !.. » (с. 180), « Пятнадцать тонн / на слабеньких плечах (новорожденного )! / Вот почему / все дети / так кричат ..», « А ноша эта — / придумана и создана / людьми! / Людьми самими / произведена. / В секретные бумаги / внесена. / Нацелена / и взвешена уже ..», «Взрывчатки — вдоволь. /Хлеба — / ни куска » (с. 180–183). Звучит резкая, язвительная насмешка над стремлением правителей государств нашей планеты забавляться в «игру», «кто больше сделает бомб-убийц».
Иронично звучит и рассуждение-умозаключение: « Но... если / разделить/ взрывчатку ... / на всех людей.../... И несет любой из нас / пятнадцать тонн взрывчатки »; «Богатыри! / Я уважаю / вас... », «Пока — пятнадцать тонн » (с. 180-183).
Чувство бесконечной тревоги за судьбу планеты, взвалившей непосильную «ношу», звучит в образных словах поэта: « Пока что эти бомбы / мирно спят », «... Сквозь смех и боль, сквозь суету и сон / мы эту ношу/ медленно / несем. / Ей подставляем / плечи и горбы »; « Земля / утробный исторгает стон! /Ей хочется /забыться поскорей. / Ей страшно / за своих богатырей! ..» и др. (с. 180-183]. Эмфатическая пауза перед заключительной поэтической фразой главы заставляет задуматься о масштабах угрозы смертельной опасности: «... И снова ночь / висит над головой. / Бездонная, / как склад пороховой » (c. 183).
А. Мальгин в книге «Р. Рождественский. Очерк творчества» утверждал: «Принципиальная удача поэта — глава «Пуля», которой завершается поэма «Двести десять шагов…» [6, с. 160]. Глава «Пуля» написана в форме диалога-спора. Завязка главы носит биографические черты и посвящена памяти рано ушедшего из жизни друга поэта Юстаса Красаускаса, литовского художника-графика, актера и спортсмена. Медицина оказалась беспомощной: «Поэт хирур гии / полсуток стоял у стола. / Хотел опровергнуть прогнозы. / И — не опроверг. / Там не было / пули...» (с. 186). Безнадежность ситуации достигается с помощью использования ассоциативной рифмы — практически каждое слово имеет внутреннюю рифму: «Поэт хирургии / полсуток стоял у стола. /Хотел опровергнуть прогнозы. / И — не опроверг. / Там не было / пули „ ». Друг умер от рака, но вопреки утверждениям поэт решает — от пули. Образ пули приобретает символический характер: пуля как смерть, судьба, стоящая перед каждым человеком..
Заключительная глава отличается афористичностью. Утверждение « На любом надгробье — / два / главных года: / год прихода в этот мир. / И год ухода » (с. 186) — развивает мысль поэта, полную пессимизма, о «бренности» человеческого существования. Данное высказывание подтверждается сравнением: « между датами — черта, / как след от пули! » (с. 186-189). Анализируемую строфу отличает стиль былинного сказа: повторы, тавтологические рифмы (« Значит, всё-таки », « Всё », « ждала »), глаголы-рифмы (« бы ла », « смог ла », « жда ла », « лета ла »), начальные рифмы (« до мчалась », « до ждалась », « до свистела »), кольцевая рифмовка (« пуля э та », « долго м чатся », « дня и часа »).
Символические образы «дороги-жизни» и «пули-смерти» сплетаются в клубок, и уже нельзя один отделить от другого: « От порога / до другого порога / вьется-кружит по земле / твоя дорога. / Вьется-кружит по земле / твоя усталость »; «. обрываются / надежды и хвори! / Обрываются / мечты и печали! »; «Два числа на камне / время стирает. / След от пули / между ними / пылает! ..» (с. 186-189). Образ пули обрамляет рассуждения лирического героя о суетно-бесцельной жизни (« эти пули летят », « а они летят », « а пули летят », « а пуля летит! », « А пуля смеется, летя »). Образ пули сравнивается с роком: « И нельзя отсидеться в броне, / уехать, забраться ..». Нельзя предугадать движение пули-«судьбы»: « Ударит (пуля) / в какой стороне / и с какой стороны? ..»; « Вот что-то не сделал: «Успею...» / «Доделаю после ..»; «... весёлая пуля, / проклятая пуля ..»; « Постой! / Да неужто / не может промазать она?! ».
В содержании главы возникает еще один символический образ Времени, которое «судит» лирического героя: «В сырое окно / неподкупное время / глядит. / И небо / в потерянных звёздах, / как в каплях / дождя.» (с. 187-188). Эмфатические паузы — перед и после заключительного высказывания-рефрена: «.Пока эти пули ле- тят / в тебя и в меня…») — придают главе незаконченность. Автор предлагает сотрудничество с читателем — поразмышлять о смысле и назначении своего пребывания на земле.
Высказывания-рефрены «пронзают» содержание последней главы, подобно «пулям»: «На то мы и люди» (строчка повторяется 4 раза); «Пока эти пули летят» (3 раза). Заключительные афористичные четырехстишья: «Ну что же, / на то мы и люди / чтоб все понимать. / На то мы и люди, / чтоб верить / в бессмертные сны…» и «Пока эти пули летят, / мы должны / успеть / вырастить хлеб, / землю спасти, / песню сложить» (с. 188–189) — вносят оптимистические штрихи в «мрачное» философское рассуждение о неизбежности смертельного исхода.
Таким образом, в поэме «Двести десять шагов» Р. И. Рождественского воплощено художественное восприятие поэтом современного ему мира: войны, памяти о ней, мирного существования людей планеты Земля, актуальные проблемы человечества, которые не утратили своей значимости и в начале XXI в.
Список литературы Темы и проблемы в поэме «Двести десять шагов» Р. И. Рождественского
- Жегис В. Что-то нужно досказать: беседа с Р. Рождественским//Литературная газета. -1980. -2 мая. -С. 3.
- Кременцов Л. П. Русская литература ХХ века/под ред Л. П. Кременцова. 2-е изд. М.: Acadеmia, 2003. -458 с.
- Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы. -М.: Acadеmia, 2003. -416 с.
- Литературная газета. -1980. -5 нояб. -С. 3.
- Мальгин А. В. Беседы о поэме (Интервью критика с Е. Евтушенко, Р. Рождественским, Л. Озеровым, Е. Исаевым, И. Шкляровским, А. Вознесенским). -М.: Знание, 1990. -64 с.
- Мальгин А. Р. Рождественский. Очерк творчества. -М.: Художественная литература, 1990. -203 с.
- Рождественский Р. И. Семь поэм. -М.: Молодая гвардия, 1982. -191 с.
- Рождественский Р. Шаги истории: за строкой поэмы//Литературная газета. -1978. -20 дек. -С. 3.
- Тимина С. И. и др. Современная русская литература (1990-е гг. -начало XXI в.)/под ред. С. И. Тиминой. -2-е изд., стереотип. -СПб.; М.: Академия, 2010. -352 с.