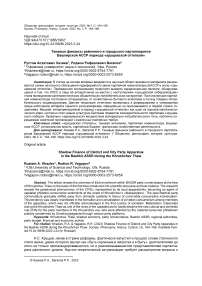Теневые финансы районного и городского партаппаратов Башкирской АССР периода «хрущевской оттепели»
Автор: Хазиев Рустэм Асхатович, Вагапов Родион Рафаэлевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе впервые вводимого в научный оборот архивного материала раскрываются схемы негласного обогащения периферийного звена партийной номенклатуры БАССР в эпоху «хрущевской оттепели». Проведенное исследование позволило выявить парадоксальное явление, обнаружившееся в том, что КПСС в лице её аппаратчиков на местах с наступлением «хрущевской либерализации» стала проводником капиталистических обывательско-потребительских настроений. Постсталинская партийная номенклатура постепенно отказывалась от хозяйственно-бытового аскетизма в пользу товарно-потребительского индивидуализма. Данная тенденция отчетливо проявилась в формировании и утверждении среди работников аппарата скрытого консьюмеризма, официально не признаваемого в первой стране социализма. Вещизм, интерпретируемый в период «хрущевской оттепели» как один из пороков капиталистического мира, негласно стал новым культурно-бытовым правилом жизнедеятельности партийцев «хрущевского набора», буквально «заразившихся» мещанством материально-потребительского типа, публично порицаемым советской пропагандой с различных партийных трибун.
«хрущевская оттепель», теневая экономика, партийная номенклатура, башкирская асср, региональная власть, партийный бюджет, финансово-хозяйственная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/149142222
IDR: 149142222 | УДК: 94(470.57)“1956/1962” | DOI: 10.24158/fik.2023.3.24
Текст научной статьи Теневые финансы районного и городского партаппаратов Башкирской АССР периода «хрущевской оттепели»
,
,
1,2Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia , ,
том, как десталинизация, ознаменовавшаяся в том числе и регламентируемым экономическим либерализмом, способствовала ментальной перезагрузке партаппарата «хрущевского призыва», ставшего с выгодой для себя монетизировать занимаемые должности.
Период «хрущевского триумфализма», который вызвал корректирование социализма сталинского типа, получил освещение в ряде новейших публикаций отечественных ученых (Гуменюк, 2018; Вельможко, 2016; Мамяченков, 2020; Мамяченков, Резниченко, 2021; Никифоров, 2020; Перцев, 2017). Однако исследователи фокус своего внимания установили на выяснении разнообразных политико-социальных и управленческих аспектов ситуации, а не на вопросах трансформации личностного кредо партруководителей на периферии, начавших «обрастать» материальными благами и подпольно обогащаться.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы, используя прежде всего различного вида исторические источники из Национального архива Республики Башкортостан, в том числе впервые вводимые в научный оборот, рассмотреть реализуемые партаппаратом районного и городского звена БАССР подпольные практики личного обогащения.
Социально-экономическая трансформация периода «хрущевской оттепели» являлась одной из многообещающих попыток всеобъемлющей модернизации страны, в рамках которой во властных структурах зародились альтернативные «антисоциалистические» элементы. В постсталинский период неафишируемое обогащение партийных работников становится постоянным фактором в политэкономии социализма. Партчиновники, особенно городского и районного уровня, являвшиеся, порой, «абсолютной властью» на подведомственной им территории, были одними из отцов-основателей самосознательного отождествления с миром денег, комфорта и высокого качества жизни по-советски.
«Золотой жилой», позволявшей в эпоху «хрущевских реформ» получать нелегальный личный доход, стало освоение партийного бюджета. «Хрущевская оттепель», положившая начало отходу от сталинско-тиранического авторитаризма и движению к менее репрессивному командному администрированию, выразившемуся в необходимости поиска иных мобилизационных механизмов, позволявших решить кадровые проблемы как в промышленном (Буданов, 2018: 140), так и в партийно-государственном секторах, способствовала либерализации контроля за расходованием партийных средств на периферии.
Анализ разнообразных постановлений, предписаний и других указующего характера документов, определявших полномочными органами ЦК КПСС соблюдение финансовой дисциплины в партии, позволяет говорить об отсутствии продуманной системы жесткого финансово-бухгалтерского контроля за оборотом и расходованием средств партийного бюджета. К началу 1956 г. в отдельных районных и городских комитетах КПСС Башкирской АССР теневое освоение коллективных средств достигло такого размаха, что стало все труднее оперативно гасить «всплывавшие» факты незаконного «обогащения» партийцев-управленцев на местах. Республиканского уровня аппаратчики вполне прагматично могли опасаться персональных оргвыводов со стороны ЦК КПСС в случае «выноса сора из избы». Инстинкт бюрократического партсохранения и знание тонкостей правил аппаратной игры предопределили, что на XXIV республиканской конференции КПСС (18–20 января 1956 г.). в обтекаемых формулировках сообщалось о «проблемах» в соблюдении финансово-бюджетной дисциплины. Однако основной акцент делался на то, что «большинство» партийных организаций республики «правильно ведут свое партийное хозяйство, соблюдая бюджетную дисциплину, экономно расходуют средства в соответствии с утвержденными сметами»1.
С целью подстраховки и в порядке принятой тогда в партии почти ритуальной самокритики на республиканской конференции было заявлено и о финансовых проступках беспрецедентного характера, обнаруженных в четырех горкомах (Ишимбайском, Октябрьском, Салаватском, Стерлитамакском) и восьми райкомах КПСС республики (Баймакском, Бураевском, Давлекановском, Зилаирском, Кандринском, Матраевском, Молотовском, Улу-Телякском) на общую сумму 69 783 руб.2 Эквивалентом данных денежных средств могли служить четыре автомашины люксового класса марки «Победа» (Сухова, 2017: 61). Все это являлось очевидным свидетельством того, что во второй половине 1950-х гг. КПСС, обладая существенными материальными активами, стала мощным экономическим субъектом, отличающимся от любой другой организации в стране.
Башкирский обком КПСС в условиях увеличивающегося в конце 1950-х гг. притока партийных денег принимал специальные меры, направленные на недопущение теневых операций с финансовыми активами. С 1956 по 1958 гг. уполномоченными комиссиями Башкирского обкома КПСС, горкомов и райкомов было проведено 442 проверки по исполнению финансово-бюджетной дисциплины.
Итоги оказались намного более удручающими, чем в 1956 г. В ходе ревизий были обнаружены неизжитые факты растрат и хищений1, которые ввиду четкой персонализации и известности сумм (Белорецкий горком – 12 796 руб.; Калтасинский райком – 6 506 руб.; Учалинский райком – 666 руб. и др.)2 невозможно было уже квалифицировать как «недостатки» или «просчеты».
Необходимо учитывать, что проверяющие не преследовали карательных целей. Они были своеобразными внутренними аудиторами, миссия которых состояла в том, чтобы в случае выявления финансового правонарушения приложить максимум усилий для немедленного, но негласного разрешения вопроса. Для статистики выборочно фиксировались некоторые малозначительные случаи. В Башобкоме понимали, что в отдельно взятой региональной партийной организации уже не могло быть безукоризненной ситуации с финансами, так как в партийной среде происходила смена мировоззрения: жить материально «достойно» уже не считалось зазорно для партийца-управленца. К тому же и в ЦК КПСС никто бы не поверил, что в области исполнения бюджета в организациях БАССР наблюдается некая «идиллия», далекая от действительности в стране.
Ряд финансовых ЧП придавались огласке, но строго на закрытых партийных форумах. Преимущественно это происходило, когда провинившиеся, пойманные проверяющими с поличным, не имели возможности срочно вернуть недостающие деньги. Так, «была выявлена крупная растрата в Караидельском райкоме КПСС… – 8 896 руб. из средств партбюджета»3. В отчетах в ЦК КПСС использовали выражения, преимущественно смягчающие суть происходящего, насколько это было возможно. Практически всегда применялось слово «растрата», которое не строго-негодующе, но тем не менее очевидно передавало смысл произошедшего – нелегальное обогащение. При этом вполне осознанно не употреблялись жестко-обвинительные формулировки: хищение, воровство, кража и т. д. Подобное партийное двуязычье было призвано не только институционно отвести тень от КПСС, но и дать понять, что имевшие место в 1957 г. «растраты» в Белорецком горкоме, Калтасинском, Учалинском и других районных комитетах партии – это не системное мошенничество, а всего лишь казусы, возникшие ввиду «проявленной вопиющей бесконтрольности и попустительства»4.
Закулисное, т.е. внесудебное, разрешение выявленных финансовых «растрат» объяснялось не только политико-идеологическими причинами. КПСС располагала существенными резервными фондами и огромными имущественными активами, чтобы без особого ущерба «терпеть убытки», вызванные тайным обогащением или получением материальной выгоды в личных целях отдельными ее членами. Важнее было не взыскать «растраченное», а «не запятнать» честь партии, «не потерять» авторитет в глазах народа.
С большой долей вероятности, в конце 1950-х гг. одним из источников получения теневой прибыли являлось «правильное» освоение средств, выделенных на «почтово-телеграфные расходы» и «содержание транспорта». Самоуверенность, базировавшаяся на вседозволенности партийного «хозяина» городского или районного масштаба, порой играла злую шутку с теми, кто заносчиво запускал руку в партийный бюджет, откровенно пренебрегая элементарными правилами достоверно-фиктивного оформления документов. В 1959 г. 8 горкомов и 34 райкома партии республики незаконно «перерасходовали» 47 тыс. руб. на «почтово-телеграфные» нужды. Траты 3 горкомов и 33 райкомов КПСС на «содержание транспорта» составили еще большую сумму – 72 тыс. руб.5
В начале 1960-х гг. были найдены новые лазейки, позволявшие извлекать неучтенный доход из служебного положения. «Левые деньги» образовывались за счет «перерасхода канцелярско-почтовых расходов». Любая торговая точка с радостью предоставляла горкому или райкому нужную накладную или счет, так как по данной статье расходов не требовалось отчитываться фискальными или иными документами строгой отчетности. Порой не было вообще никаких подтверждающих документов, кроме уведомительной записи в журнале о приобретении канцелярских товаров и пользовании почтовыми услугами. Поэтому в 1960 году 36 райкомов и горкомов партии республики «перерасходовали» на «канцелярско-почтовые расходы» около 50 тыс. руб.6, на которые можно было купить три автомобиля «Победа».
В условном черном списке Башкирского обкома КПСС оказалось более 30 райкомов и горкомов партии, в которых, кроме устных объяснений, не имелось платёжных документов установленного образца, подтверждавших «перерасход» по командировкам, «содержанию помещения и транспорта», «приобретению и ремонту инвентаря»7. В категорию явных нарушителей финансово-бюджетной дисциплины попали Баймакский, Юмагузинский, Учалинский, Иглинский, Бурзянский, Давлекановский, Кармаскалинский и некоторые другие райкомы и горкомы партии. «Творящееся на местах» с финан- сами переполнило чашу терпения ревизионной комиссии Башобкома КПСС. Она, конечно, в комплементарных выражениях, но настойчиво проводила идею, что секретари горкомов и райкомов лично должны обеспечивать «строгое соблюдение финансово-бюджетной дисциплины»1.
Секретариат и бюро Башкирского обкома КПСС вынуждены были реагировать на заключение ревизионной комиссии, потому что именно оно являлось основанием для утверждения на заседании бюро обкома полугодовых и годовых финансовых отчетов, представленных горкомами и райкомами. Детального разбора не происходило, серьезные оргвыводы тем более не делались – все прекрасно понимали причины и источники происходившего нецелевого «прикарманивания средств» по таким статьям, как содержание транспорта, почтово-телеграфные, командировочные расходы и приобретение инвентаря. Тем не менее правила политико-бюрократической игры требовали реагирования, которое подтверждалось формальными по содержанию решениями о необходимости повысить ответственность за исполнение финансовой дисциплины2.
Определенный перелом произошел в начале 1962 г. когда выяснилось, что более чем в половине райкомах и горкомах КПСС республики (в 41 из 71) при запланированных, а не экстренных проверках были выявлены массовые ошибки в оформлении денежных документов, не позволявшие определить мотивированные причины «перерасхода» денежных средств на текущие хозяйственные нужды3. То, что обтекаемо называлось «недостатком», нередко было откровенной отпиской с признаками фальсификации, потому что все понимали: делу не будет дан ход, если только кто-либо не встанет на антипартийный путь, а такого рода оппозиционеров среди партбюрократов «хрущевского набора», да еще в национальной глубинке, не наблюдалось.
В Башкирском обкоме партии с целью искоренения явно разраставшихся финансовых «недостатков» впервые в период «хрущевской оттепели» вместо постановления применили юридическую дефиницию «требование», что означало выраженную категоричность в решительной форме. Секретари горкомов и райкомов КПСС обязывались «производить расходование средств в строгом соответствии с утвержденной сметой»4. Фактически вводилась не коллективно-размытая, а персональная ответственность за исполнение партийного бюджета.
Скорее всего, в Башкирском обкоме партии были отчасти осведомлены о финансовых махинациях, отслеживая по своим каналам, «откуда дует ветер» в ЦК КПСС, и зная о том, что ожидается усиление борьбы с правонарушениями коммунистов, поэтому действовали на опережение, создавая себе выгодный имидж в глазах Центра. 29 марта 1962 г. вышло закрытое письмо ЦК КПСС «Об усилении борьбы со взяточничеством и разворовыванием народного добра»5. Причастность коммунистов к хищениям и взяточничеству, а также пособничество различного рода жуликам и расхитителям, либеральное к ним отношение рассматривались как тяжкие преступления перед партией и государством. Виновных требовалось привлекать к строгой ответственности вплоть до исключения из партии и предания суду6.
Подводя итог нашим рассуждениям, необходимо подчеркнуть, что эпоха Н.С. Хрущева, для которой был характерен дозированный хозяйственно-экономический либерализм, вывела на партийную авансцену партноменклатуру «хрущевского набора», которая в противовес «сталинской гвардии» исповедовала ценности материального довольства жизнью. Источником финансового благополучия для части партийного аппарата стал бюджет, средства которого, используемые не по предписанному назначению, позволяли получать тайные дивиденды. Прежде всего, укоренилась практика «запутанного» ведения учета материальных ценностей, выдача наличных денег без подтверждающих документов, осуществление денежных проводок, кассовых операций, «прихода» средств, полученных из Госбанка по чекам и т.д. К тому же, порочная практика фактической неподсудности партаппаратчиков, означавшая негласное существование иммунитета, являлась питательной почвой для реализации различного рода махинаций.
Список литературы Теневые финансы районного и городского партаппаратов Башкирской АССР периода «хрущевской оттепели»
- Буданов А.В. Принципы кадровой политики в советском ракетостроении в годы "хрущевской оттепели" // Вопросы управления. 2018. № 5 (54). С. 140-150.
- Вельможко И.Н. Социальные трансформации в период "хрущевской оттепели" // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2016. Т. 26, № 4. С. 93-100.
- Гуменюк А.А. Социальная стратегия советского государства во второй половине 1950 - середине 1980-х гг.: этапы выработки и механизмы реализации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2018. Т. 18, № 2. С. 161-169.
- Мамяченков В.Н. Заработная плата граждан СССР и ее покупательная способность в 1940-1955 годах (на материалах Свердловской области) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020. № 5. С. 16-25.
- Мамяченков В.Н., Резниченко А.В. Численность, состав и зарплаты работников партийных органов Свердловской области в 1954-1966 годах: от Н.С. Хрущева к Л.И. Брежневу // Манускрипт. 2021. Т. 14, № 8. С. 1569-1573.
- Никифоров Ю.С. Идеолого-политическое обеспечение трансформации экономики и социума в СССР 1950-80-х гг.: исторические вызовы и скрытые тенденции // Вестник Костромского государственного университета. 2020. Т. 26, № 4. С. 50-57.
- Перцев В.А. Разработка и реализация в советском государстве концепции общества потребления в 1950-1960-е гг. // Общество: философия, история, культура. 2017. № 8. С. 110-113.
- Сухова О.А. "Автомобиль - в личное пользование!": приобретение автомобилей в СССР в условиях кризиса системы распределения в 1960-е - 1980-е гг. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2017. № 3 (43). С. 59-66.