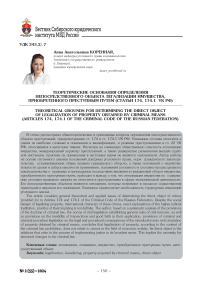Теоретические основания определения непосредственного объекта легализации имущества, приобретенного преступным путем (статьи 174, 174.1 УК РФ)
Автор: Коренная А.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 2 (55), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены общетеоретические и прикладные вопросы определения непосредственного объекта преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ. Указанные составы относятся к одним из наиболее сложных в понимании и квалификации, и редкими преступлениями в гл. 22 УК РФ, относящимся к категории тяжких. Несмотря на очевидную общественную опасность легализации имущества, международный характер преступлений, а также развернутые разъяснения высшей судебной инстанции, практика их применения в настоящее время не является однозначной. Автор работы на основе системного анализа положений доктрины уголовного права, норм гражданского законодательства, устанавливающих общие правила гражданского оборота, а также положений о недействительности сделок и добросовестности применения, положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства о правовых и процедурных последствиях введения в гражданский оборот имущества, приобретенного преступным путем, приходит к выводу о том, что легализация имущества по содержанию уголовно-правового запрета не относится к преступлениям в сфере экономической деятельности. Его непосредственным объектом являются отношения, которые возникают в процессе осуществления правосудия в широком его понимании. Указанное предполагает необходимость структурных изменений уголовного закона.
Легализация, отмывание, имущество, приобретенное преступным путем, непосредственный объект
Короткий адрес: https://sciup.org/140305829
IDR: 140305829 | УДК: 343.2/.7
Текст научной статьи Теоретические основания определения непосредственного объекта легализации имущества, приобретенного преступным путем (статьи 174, 174.1 УК РФ)
У становление объекта преступного посягательства является первым этапом формулирования уголовно-правового запрета (первым этапом криминализации). Верное, методологически и содержательно обоснованное определение непосредственного объекта преступления позволяет:
-
1) сформировать корректную структуру уголовного закона, соответствующую реальным общественным отношениям, по поводу которых формируется уголовно-правовая норма и устанавливается режим уголовно-правовой охраны;
-
2) на последующих этапах криминализации выделить и обосновать криминообразующие признаки состава преступления. В позиции современного законодателя прослеживается тенденция, согласно которой количество криминообразующих признаков связано с общественной опасностью совершаемых преступных деяний: чем выше общественная опасность, тем меньше таких признаков предусмотрено в УК РФ, и наоборот [15, с. 186189];
-
3) сформировать модель дифференциации уголовной ответственности;
-
4) определить концептуальные подходы к пенализации и определить виды и размеры основных и дополнительных наказаний, соответствующих характеру и степени общественной опасности. Указанное предопределяет необходимость формирования теоретически и практически обоснованных концепций определения объектов преступного посягательства.
Дискуссия о реформировании уголовного закона продолжается на протяжении длительного времени. Геополитические изменения последних лет несколько изменили вектор развития научной мысли с экономических проблем на регламентацию и охрану отношений, возникающих в связи с обеспечением национальной безопасности. Однако очевидно, что имеющиеся объективные проблемы уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности не просто не устранены, а продолжают накапливаться, что в ближайшее время потребует их оперативного решения, так как именно экономическая стабильность, обеспечиваемая в том числе посредством установления режима уголовно-правовой охраны, является основой развития индивида, социума, государства. В этой связи разработка теоретических основ обоснованного и как следствие эффективного уголовного закона об ответственности за экономические преступления в настоящее время является одной из приоритетных задач.
Одним из методов формирования концепции нового УК РФ является теоретическое моделирование уголовно-правовой охраны, представляющая собой познавательную деятельность по формированию как идеального образа закона на основе имеющихся доктринальных разработок, практики применения действующего УК РФ, так и предполагаемого результата от его изменения. На первом этапе теоретического моделирования представляется необходимым определить круг деяний, по характеру являющимися экономическими, то есть, собственно, ответить на вопрос: какие именно деяния относятся к экономическим преступлениям.
Реализация данной задачи осуществляется путем определения как видового объекта преступления с последующим выделением из него отельных элементов – непосредственных объектов (дедуктивный метод), так и в обратной последовательности (метод индукции). При этом каждый из действующих составов преступлений нуждается в скрупулезном изучении для установления механизма соответствия общего и частных объектов, образующих систему преступлений в сфере экономической деятельности. Определение непосредственного и видового объектов преступлений в сфере экономической деятельности позволяет структурировать уголовный закон в соответствии с истинным содержанием экономических отношений, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности правоприменительной практики и снижает коррупционные риски, обусловленные возможностью равновероятностной квалификации фактически тожественных де- яний по различным статьям уголовного закона, зачастую не аналогичной категории. Как мы указывали выше, качественные характеристики объекта определяют помимо прочего содержание уголовно-правового запрета, набор криминообразующих признаков, средств дифференциации уголовной ответственности. Указанное детерминирует необходимость формирования теоретически и практически обоснованной концепции определения объектов преступного посягательства.
Определение непосредственного объекта легализации имущества, приобретенного преступным путем, ответственность за которую установлена в ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, традиционно относится к дискуссионным вопросам науки уголовного права. Анализ научной литературы, несмотря на широкий диапазон аргументированных суждений о содержании основного непосредственного объекта легализации имущества, приобретенного преступным путем, позволяет выделить следующие концептуальные подходы к его определению.
Первый основан на структуре действующего уголовного закона и может именоваться экономическим. Сторонники экономического характера легализации под непосредственным объектом понимают совокупность общественных отношений, охраняющих установленный законодательством порядок совершения финансовых операций с денежными средствами или имуществом, общественные отношения в сфере перераспределения материальных ценностей [1, с. 309], интересы экономической деятельности государства, связанные с финансовыми операциями или иными сделками в отношении денег или иного имущества [13, с. 254]. Сами рассматриваемые преступления относят к группе преступлений, совершаемых с использованием незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого имущества [15, с. 256].
Сторонники комплексного (смешанного) подхода, определяя основной непосред- ственный объект схожим или аналогичным образом, дополняют характеристику преступления указанием на наличие дополнительного объекта, под которым понимают материальные и процессуальные общественные отношения, формирующиеся при привлечении лица к ответственности за совершенное первоначальное преступление, то есть речь идет об интересах правосудия в широком понимании [1, с. 64].
Третья группа авторов предлагают рассматривать в качестве основного непосредственного объекта интересы исключительно правосудия [6, с. 37]. Экономические отношения в данном случае образуют дополнительный объект преступления.
Представляется, что для определения основного непосредственного объекта легализации имущества, приобретенного преступным путем, методологически следует исходить из приема-модели «общее-особенное-еди-ничное». В логике и философии единичное – признак конкретного предмета, отличный от признаков всех предметов, входящих в некоторый фиксированный класс, общее – признак этого предмета, сходный с признаком по крайней мере еще одного предмета данного класса; всеобщее – признак, сходный с признаками всех предметов класса, особенное – любой невсеобщий признак1. В юриспруденции подобный методологический прием применяется в том числе при построении юридических конструкций, что обеспечивает системность права в целом и взаимосвязи и взаимообусловленность отдельных его элементов [2, с. 6]. Категория «общее» при определении непосредственного объекта преступного посягательства в сфере экономической деятельности определяется положениями ст. 2 УК РФ, исходя из формулировки которой базовым обобщающим понятием для определения объекта преступления является не сама экономическая деятельность, а закрепленное право на свободу ее осуществления, предоставленное лицу. Особенное реализуется на двух уровнях – при определении родового объекта (экономика) и видового (экономическая деятельность).
Системообразующим признаком для рассматриваемой группы преступлений является категория «экономическая деятельность». Все последующие правовые характеристики преступлений обусловлены и производны от данного понятия. В общем виде экономика рассматривается как совокупность отношений между людьми в обществе, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления [7, с. 216]. Экономический – значит товарный, обменно-оценочный, денежный, стоимостной, а экономика представляет собой организованный определенным образом способ хозяйствования (то есть экономика не все общее или частное хозяйство, существующее в определенное время, а лишь организованная его часть) [9, с. 10].
В литературе выделены следующие признаки экономической деятельности, в совокупности характеризующие ее как объективное и необходимое социальное явление:
-
1) экономическая деятельность – это всегда активные действия в широком их понимании. С точки зрения теории государства и права речь идет о действиях в узком смысле слова – активных, а не о воздержании от действия [6, с. 10];
-
2) с субъективной сторона экономическая деятельность является сознательной, волевой и целенаправленной [3, с. 38]. Цель экономической деятельности – удовлетворение материальных и духовных потребностей [11, с. 246], а промежуточный результат – создание (изменение) объектов прав (так как каждый объект гражданского правоотношения обладает способностью удовлетворять какие-либо потребности субъектов) [11, с. 106];
-
3) организованный характер экономической деятельности предполагает определенную правовую форму ее осуществления [18, с. 87]. Например, материальное и нематериальное производство опосредуют
трудовой договор, договор подряда, авторский договор, распределение – общая собственность и корпоративные отношения, обмен – договоры купли-продажи и налоговое право, деление потребления на личное и производительное отразится на квалификации видов экономической деятельности.
Совокупность указанных признаков определяет экономическое содержание рассматриваемой категории и позволяет соотнести фактические общие отношения с частными, поставленными под охрану посредством уголовно-правовых норм, в настоящем – норм об ответственности за легализацию имущества, приобретенного преступным путем.
Понятие «экономическая деятельность» широко представлено в различных отраслях российского права, в частности, в ст. 8, 34 Конституции РФ, ст. 1, 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ст. 19 Гражданского кодекса РФ, ст. 14.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ, п. 4 ст. 3 Налогового кодекса РФ, гл. 22 Уголовного кодекса РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», гл. III «Основы экономической деятельности в области почтовой связи» Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» и др. В Конституции РФ термин «экономическая деятельность» упомянут в двух нормах – ст. 8, устанавливающей единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, и в ст. 34, в которой закреплено право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Конституционный смысл экономической деятельности весьма широк. Часть 1 ст. 34 Конституции РФ говорит не только об использовании имущества, но и о человеческих способностях в достижении экономических интересов. Вследствие этого к видам экономической деятельности относят, например, трудовую деятельность [4, с. 579], интеллектуальную, в том числе
,^^я?й^
деятельность по созданию авторских произведений и последующему их экономическому использованию [16, с. 34]. Право на экономическую деятельность рассматривается как право извлекать материальные выгоды, в том числе в виде доходов от эксплуатации имущества, выполнения работ, оказания услуг и прочих возможных вариантов использования своих способностей. При этом приобретение какого-либо специального правового статуса для реализации данного субъективного права не требуется [9, с. 69]. Обозначенная в ст. 8 Конституции РФ свобода экономической деятельности означает право гражданина заниматься извлечением доходов и иных полезных имущественных результатов от своей деятельности без дополнительного государственного контроля [13, с. 5]. Под правом на экономическую деятельность следует понимать право извлечения материальных выгод, в том числе в виде доходов, от эксплуатации имущества, выполнения работ, оказания услуг и прочих возможных вариантов использования своих способностей.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что межотраслевое понимание экономической деятельности и ее уголовноправовое значение в разрезе структуры уголовного закона предполагает, что негативному воздействию при совершении преступлений, терминологически обозначенных законодателем как преступления в сфере экономической деятельности, подвергаются экономические отношения обмена, реализуемые на основе принципов добровольности, встречности и возмездности посредством реализации соответствующего конституционного права. Указанные отношения относятся к категории «общее» при определении основного непосредственного объекта легализации имущества, приобретенного преступным путем.
Категория «особенное» применительно к теме настоящего исследования реализуется на двух уровнях – при определении родового объекта (экономика) и видового (экономическая деятельность). Ранее мы подробно рассмотрели вопросы определения экономи- ческой деятельности как объекта уголовноправовой охраны, охватывающего отношения обмена как элемента экономических отношений в целом. В этой связи по характеру соотношения общего и особенного видовой объект определяется как нарушение принципов (правил) обмена как одной из форм реализации права на свободное осуществление экономической деятельности. при этом криминализируемые деяния должны соответствовать критериям общественной опасности как по социально-экономическим, так и по организационно-экономическим основаниям.
При определении основного непосредственного объекта (единичное) необходимо устанавливать, какие именно отно-шения (экономические или нет) подвергаются прямому негативному воздействию. При определении непосредственного объекта преступления по аналогичному алгоритму выделяется единичное общественное отношение, находящиеся во взаимосвязи и являющиеся частью общего экономического отношения, которое по своему содержанию во всяком случае будет являться отношением обмена. Негативным экономическим поведением такому отношению должен быть причинен вред, выражающийся в материальных последствиях нарушения частных принципов обмена. Буквальное содержание ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, а именно указание на цель совершения финансовых операций и сделок, предполагает сокрытие криминальной деятельности, а не потребление имущества и денежных средств, приобретенных преступным путем, является приоритетом для лица их осуществляющего. Кроме того, само имущество, несмотря на порочные основания его приобретения, не исключается из гражданского оборота, в отношении такого имущества устанавливается запрет на его истребование у добросовестного приобретателя (ст. 302 ГК РФ). Иных ограничений в части оборота имущества с пороком приобретения (получения, происхождения) гражданское законодательство не предусматривает.
Гражданско-правовым последствием совершения сделок с имуществом, которое приобретено в результате совершения другого преступления, может быть признание такой сделки недействительной по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Однако аналогичное основание для признания сделки недействительной в ГК РФ не предусмотрено. Предположим, что признание сделки недействительной возможно по правилам ст. 168 и ст. 169 ГК РФ с установлением правовых последствий в виде двусторонней реституции. Однако подобные последствия возникают и для целого ряда иных сделок, что, по нашему мнению, исключает нарушение принципов обмена как общих, так и частных, что, в свою очередь, не позволяет определять вред от оборота преступного приобретенного имущества как вред экономический.
На законодательном уровне установлены требования к легализации в хозяйственном обороте имущества, добытого преступным путем:
-
1) такое имущество может быть конфисковано на основании ст. 104.1 УК РФ;
-
2) на данное имущество может быть наложен арест для обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, в дальнейшем обращено взыскание (ст. 299 УПК РФ);
-
3) имущество может быть возвращено законному владельцу (ст. 81 и 82 УПК РФ).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность. Формулировки ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ в части установления криминализирующего признака в виде цели совершения сделок и финансовых операций также позволяют сделать вывод, что общественная опасность (основание криминализации) обусловлено не самими сделками с преступно приобретенным имуществом, а совершением действий, направленных на сокрытие ранее совершенного преступления.
Таким образом, в результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что преступления, предусмотренные ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, не отвечают признакам преступлений в сфере экономической деятельности исходя их качественных характеристик основного непосредственного объекта. Указанное предполагает, что рассматриваемые нормы необходимо разместить в главе о преступлениях против правосудия с установлением характерных для данных преступлений квалифицирующих признаков и соразмерных санкций.
Список литературы Теоретические основания определения непосредственного объекта легализации имущества, приобретенного преступным путем (статьи 174, 174.1 УК РФ)
- Алиев, В.Н. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем : дис. ... докт. юрид. наук / В.Н. Алиев. – М., 2001. – 467 с.
- Васильев, А.А. Категории общего, особенного и единичного в праве: аспекты общей теории права / А.А. Васильев, И.Ю, Маньковский, Е.А. Куликов // Сибирский юридический вестник. – 2019. – N 3. – С. 3-9.
- Вяткин, А.П. Субъективная экономическая рациональность: теоретический экскурс / А.П. Вяткин // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. – 2012. – N 2. – С. 36-46.
- Глущенко, А.В. Эволюция правового закрепления права на труд в России / А.В. Глущенко // Экономика и социум. – 2015. – N 6-2(19). – С. 579-583.
- Долинская, В.В. Экономическая деятельность и ее виды / В.В. Долинская // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2018. – N 3. – С. 3-15.
- Клепицкий, И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. – 2002. – N 8. – С. 33-46.
- Климов, Л.М. Терминология рыночной экономики / Л.М. Климов, Н.А. Климова. – М.: Знание, 1994. – 224 с.
- Матвеева, Н.С. Предпринимательская деятельность как разновидность экономической деятельности / Н.С. Матвеева // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2008. – N 13. – С. 8-18.
- Надежин, Н.Н. Понятие и соотношение предпринимательской и экономической деятельности / Н.Н. Надежин // Проблемы правоохранительной деятельности и образования : сборник научных трудов докторантов, адъюнктов, аспирантов, соискателей. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД РФ, 2008. – С. 66-71.
- Саенко, Н.Е. Экономическая деятельность как гражданско-правовая категория / Н.Е. Саенко // Право и государство: теория и практика. – 2022. – N 12. – С. 245-247.
- Теория государства и права : курс лекций: в 2 т. Т. 2 / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Юрид. колледж МГУ, 1995. – 175 с.
- Сибгатуллина, Г.М. Понятие и содержание конституционного права на занятие экономической деятельностью в Российской Федерации / Г.М. Сибгатуллина // Безопасность бизнеса. – 2021. – N 5. – С. 3-7.
- Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: Зерцало-М, 2005. – 456 с.
- Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3: Уголовная политика. Уголовная ответственность / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 752 с.
- Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Юрайт, 2024. – 351 с.
- Фалалеев, А.С. Распоряжение исключительным правом автора на произведение : дис. ... канд. юрид. наук / А.С. Фалалеев. – М., 2013. – 162 с.
- Филатова, М.А. Объект посягательства в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем / А.М. Филатова // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2014. – N 2. – С. 61-73.
- Якубенко, А. Н. Особенности непосредственного объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ / А.Н. Якубенко // Закон и право. – 2008. – N 7. – С. 84-89.