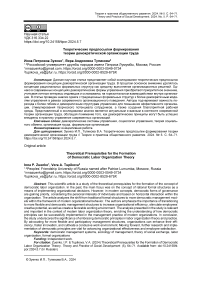Теоретические предпосылки формирования теории демократической организации труда
Автор: Зуенко И.П., Тупикова В.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Данная научная статья представляет собой исследование теоретических предпосылок формирования концепции демократической организации труда. В прошлом основное внимание уделялось концепции рациональных формальных структур как средству выполнения организационных решений. Однако в современных концепциях демократические формы управления приобретают приоритетное значение, учитывая личные интересы индивидов и основываясь на горизонтальном взаимодействии внутри организации. В статье проведен анализ сдвига с традиционных формальных структур к более демократичным моделям управления в рамках современного организационного поведения. Авторы подчеркивают важность перехода к более гибким и демократичным структурам управления для повышения эффективности организации, стимулирования творческого потенциала сотрудников, а также создания благоприятной рабочей среды. Представленный в исследовании анализ является актуальным и важным в контексте современной теории организации труда, обогащая понимание того, как демократические принципы могут быть успешно внедрены в практику управления современных организаций.
Демократические системы управления, социология управления, теория социального обмена, организация труда, формальные организации
Короткий адрес: https://sciup.org/149145865
IDR: 149145865 | УДК: 316.334.22 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.7
Текст научной статьи Теоретические предпосылки формирования теории демократической организации труда
В области социальной психологии теория социального обмена является одной из ключевых теоретических перспектив, исследования которой имели свое начало в работах выдающихся ученых, таких как Дж. Хоманс, П. Блау и Р. Эмерсон. Отражая влияние философских и психологических принципов утилитаризма и бихевиоризма, данная теоретическая ориентация сохраняет свою актуальность и в настоящее время.
Теория социального обмена (ТСО) была популярна в литературе по социологии и социальной психологии и считается одной из старейших теорий социального поведения. Одним из важных аспектов современных исследований социального обмена в рамках социологии управления является анализ связей данной теории с теориями социального статуса, влияния, социальных сетей, справедливости, формирования коалиций, солидарности, доверия, аффекта и эмоций. В трудах Дж. Хоманса основное внимание уделяется индивидуальному поведению акторов в контексте их взаимодействия (Homans, 1961). Целью его научных исследований было понимание ключевых процессов социального поведения, таких как власть, конформизм, статус, лидерство и справедливость через призму концепции взаимодействия индивидов как основных строительных блоков социальных групп.
Дж. Хоманс считал, что любые явления в социальных группах могут быть объяснены через анализ поведения и взаимодействия индивидов в этих группах: такой подход к исследованию вдохновил П. Блау на работу, он расширил теорию социального обмена, включив в нее анализ эмерджентных свойств социальных систем и их структуры (Blau, 1964).
Дж. Хоманс объяснил социальное поведение и формы согласования, которые возникают из социального взаимодействия, показав, как поведение А отражается в поведении В (в двусторонних отношениях между акторами А и В), и как поведение В, в свою очередь, влияет на поведение А в ответ. Это было фундаментальной основой для дальнейшего социального взаимодействия, описанного на уровне субинституции. Исторические и структурные факторы воспринимались как данность. Ценность для индивида определяется историей вознаграждения, которую он получал, и, соответственно, рассматривается так же, как неотъемлемая характеристика при участии в обмене. Основной акцент исследований Дж. Хоманса был сосредоточен на социальном поведении, которое возникает в результате процессов взаимного поощрения (и его отсутствия) (Emerson, 1987).
Двусторонний обмен, который изначально привлекал внимание Дж. Хоманса, послужил основой для теоретического анализа других ключевых социологических концепций, таких как распределительная справедливость, баланс, статус, лидерство, авторитет, власть и солидарность. Его работы часто критиковались по двум основным причинам: за слишком упрощенный подход (редукционистский, основанный на принципах психологии в интерпретации социологических явлений) и недостаточное внимание к значению институциональных и социальных структур, процессов при анализе социального поведения на более низком уровне (Johnson, 2021).
Ключевые принципы Дж. Хоманса сформировали изучение социального поведения с точки зрения вознаграждений и наказаний. Поведение, которое, в целом, вознаграждается, будет продолжаться (пока достигается предел убывающей полезности).
П. Блау, работавший примерно в одно время с Дж. Хомансом, выдвинул свою теорию микрообмена, основанную на концепциях вознаграждений и затрат. Однако он предпочел более экономический и утилитарный подход к анализу поведения, а не принципы подкрепления, вытекающие из экспериментального анализа поведения. Основное различие между этими двумя широкими подходами заключается в том, заглядывает ли участник отношений вперед в будущее или ориентируется на прошлое при принятии решений о дальнейших действиях. Участники взаимодействия рассматриваются П. Блау как рациональные акторы, ожидающие вознаграждения, приносящие пользу, и в общем случае выбирающие альтернативы, максимизирующие полезность (и минимизирующие затраты). Теория микрообмена, представленная в работах П. Блау, находится в ранней стадии развития и требует дальнейшего изучения, несмотря на то, что это была одна из первых попыток применить утилитарные принципы из экономики к анализу социального поведения (Blau, 1964).
П. Блау представлял социальный обмен как ключевой процесс в социальной жизни, который является основой взаимоотношений как между группами, так и между индивидами. Его основное внимание было сосредоточено на взаимном обмене материальными благами и различными формами ассоциаций, а также на образовании социальных структур, порождаемых этим видом социального взаимодействия. Согласно П. Блау: «Социальный обмен... относится к добровольным действиям отдельных лиц, которые мотивированы отдачей, которую они, как ожидается, принесут и, как правило, действительно приносят от других» (Blau, 1964: 93). В противоположность социально-экономическому обмену он подчеркивает тот факт, что в строго социальном контексте более вероятен характер обязательств, связанных с обменом, который останется неопределенным, по крайней мере, на начальном этапе. Социальный обмен, утверждает он, «включает в себя принцип, согласно которому, один человек оказывает другому услугу, и хотя существует общее ожидание ответной услуги в некотором будущем, ее конкретный характер заранее точно не оговаривается» (Blau, 1964: 93).
Таким образом, социальный обмен представляет собой долгосрочное взаимодействие, основанное на услугах, где нет четкого учета, и взаимоотношения строятся на неофициальном обязательстве отвечать взаимностью. В отличие от экономического обмена, который обычно основывается на формальных контрактах с четко определенными условиями и наказаниями за нарушение (Бибик, 2016), социальный обмен исследуется в контексте рабочих условий и поведений. По сравнению с материальными благами, обычно связанными с экономическим обменом, услуги и преимущества, которые выступают предметом обмена, отражают взаимоподдержку и инвестиции в отношения.
Признание позитивного отношения и вклада сотрудников в работу, которые выходят за рамки их предписанных или предусмотренных договором ролей в качестве источника конкурентного преимущества организации, вызвало интерес к изучению и анализу мотивационной основы таких рабочих отношений среди исследователей.
Социальный обмен в рабочих отношениях может быть стимулирован справедливым подходом организации к своим сотрудникам. Подобное покровительство со стороны организации (или ее агентов) порождает обязательство со стороны сотрудников отвечать взаимностью на добрые дела организации или ее представителя. В исследованиях изучалась взаимосвязь между справедливым отношением организации к своим сотрудникам или организационной справедливостью и отношением и поведением на работе (Folger, Konovsky, 1989).
Хотя формулировка теории П. Блау подчеркивала роль доверия в возникновении и поддержании отношений социального обмена, современные исследования фокусируются на его механизмах через воспринимаемую организационную поддержку (POS) и обмен лидера и участников (LMX), отражающих отношения социального обмена между супервайзером и организацией. POS и LMX являются показателями качества микроклимата в сфере трудовых отношений: первый оценивает, как воспринимают сотрудники заботу организации об их благополучии и признание их вклада, второй описывает отношения между руководителем и подчиненными. П. Блау говорил о том, что социальный обмен требует доверия к другим для выполнения своих обязательств (Blau, 1964: 101).
Как отметил П. Блау: «Установление обменных отношений предполагает осуществление инвестиций, которые представляют собой обязательство перед другой стороной. Поскольку социальный обмен требует доверия к другим, чтобы ответить взаимностью, первоначальная проблема заключается в том, чтобы доказать, что вы заслуживаете доверия» (Blau, 1964: 106). Следовательно, справедливое отношение партнера по фокусному обмену (организации или руководителя) к другому (сотруднику) инициирует отношения социального обмена. Со временем эти стимулы составляют представление о надежности партнера.
Чтобы уравнять или обеспечить баланс в своем обмене, сотрудники будут чувствовать себя обязанными ответить взаимностью на добрые дела партнера по обмену. Как отмечал П. Блау: «Выполняя свои обязательства по оказанию услуг ... индивиды демонстрируют свою надежность и постепенное расширение взаимного служения» (Blau, 1964: 89). Таким образом, взаимность укрепляет и стабилизирует доверие – ось, на которой вращается социальный обмен. Обязательства, которые партнеры берут на себя в социальном обмене, как правило, размыты и ценятся как символы взаимной лояльности, доброй воли и широкой поддержки.
Р. Эмерсон отмечает, что в социальном обмене участвуют два человека, каждый из которых приносит пользу другому и зависит от вознаграждения другого (Emerson, 1981). ТСО основана на предпосылке, что человеческое поведение или социальное взаимодействие представляют собой обмен деятельностью (материальной и нематериальной), в частности, вознаграждениями и издержками. П. Блау анализирует, как структура вознаграждений и затрат в отношениях влияет на модели взаимодействия. ТСО рассматривает обмен как основу человеческого поведения.
Участники обмена взаимозависимы по отношению к результатам, которые они ценят. Они ведут себя таким образом, что увеличивают результаты, которые оценивают положительно, и уменьшают те, которые оценивают отрицательно, и, если выгоды от обмена превышают затраты, акторы вступают в повторяющиеся обмены с течением времени.
ТСО утверждает, что все решения людей об участии в процессе взаимодействия основаны на использовании субъективного анализа затрат, выгод и сравнении альтернатив. Люди начинают процесс обмена как только оценивают вознаграждение и издержки, они вступают в отношения, в которых могут максимизировать выгоды и минимизировать затраты. Партнеры будут участвовать в обмене, если вознаграждения, полученные в результате взаимодействия, представляют для них ценность, а воспринимаемые издержки не превышают воспринимаемых выгод (Blau, 1964). Взаимодействия, скорее всего, продолжатся только в том случае, если обе стороны почувствуют, что они получают от обмена больше выгоды, чем потерь.
Социальный обмен отличается от экономического по нескольким фундаментальным признакам. Хотя выгода, связанная с экономическим обменом, носит формальный характер и часто является договорной, ее бюрократическая природа редко обсуждается в ходе обмена. Обмен выгодами является добровольным действием и влечет за собой неопределенные будущие обязательства. Выгода не возникает на расчетной основе, или quid pro quo, и не гарантирует взаимную пользу. Таким образом, социальный обмен сопряжен с неопределенностью, особенно на ранних стадиях отношений.
Подобно экономическому обмену, в социальном обмене существует ожидание некоторой будущей отдачи от взносов между партнерами по обмену, хотя точная природа отдачи неизвестна и не обсуждается при социальном обмене (Blau, 1964). Социальные обмены также характеризуются долгосрочной справедливостью в отличие от краткосрочной, которая характеризует экономические обмены. Согласно ТСО социальный обмен включает в себя экономические и/или социальные результаты. Е. Уайтнер и др. отмечают, что обмены могут включать в себя выгоды с экономической или без какой-либо объективной полезности, и далее утверждают, что последняя может иметь значительное влияние на социальное измерение отношений (Whitener et al., 1998).
В 1960-е годы отмечается значительное увеличение академических исследований в области теории организации. В это время преобладала рациональная инструментальная концепция формальных организаций, рассматривавшая их как средства для осуществления политических решений и подчеркивающая важность воли, понимания и согласия внутриорганизационных субъектов, особенно их лидеров.
Организации в контексте данного периода рассматривались как специфический тип социальной структуры, отличающийся от других форм социальной организации, таких как семьи, районы, социальные группы и классы. Чаще всего термин «организация» ассоциировался с бюрократической моделью М. Вебера, и важнейшей задачей было изучение того, как структуры и процессы в организации влияют на ее производительность.
Два ключевых аспекта, которые привлекали особое внимание исследователей в рамках теории организации в указанный период:
-
• формальная структура организации является единственным наиболее важным ключом к ее функционированию (Perrow, 1993);
-
• формальные организации являются податливыми инструментами для лидеров, «сознательно спланированных, преднамеренно построенных и реструктурированных» (Etzioni, 1964: 3).
Разделение теории организации, государственного управления и демократического управления произошло, несмотря на то, что ведущие исследователи формальных организаций, такие как Г.А. Саймон и Дж.Г. Марч, предпринимали попытки сблизить области исследования (March, Simon, 1993). Исследователи формальных организаций продолжали работать над такими вопросами, как теория организации, государственное и демократическое управление, обращая свое внимание на рационально-инструментальные аспекты доминирующих организационных моделей. К примеру, исследовательская программа, сформулированная Б. Якобсоном, нацеливалась на совмещение организационных и политических аспектов административно-политической сферы. Это достигалось через анализ структуры и работы государственного управления, а также изучения способов поддержки или изменения административных институтов, предпосылок для различных форм и процессов и их влияния на результаты политики (Jacobsson, Legreid, Pedersen, 2004)
Программа Б. Якобсона заимствовала идеи Д.Г. Марча и Г.А. Саймона об организационном принятии решений и ограниченной рациональности (March, Simon, 1993: 108); концепцию М. Вебера о бюрократии и бюрократизации как части крупномасштабных исторических реформ в сторону современности (Weber, 1978); анализ политических систем и идеи исследователей формальных организаций и государственного управления, таких как П. Блау, М. Крозье, А. Эциони, Ч. Перроу, Ф. Селзник и Д. Томпсон.
Бергенский подход представляет собой абстрактную концепцию демократического управления, в которой выделяется суверенный демос, представленный как корпорация равноправных граждан (Olsen, 2018). Подобный общественный подход уделяет особое внимание коллективности и равенству, в отличие от более поздних административных реформ, которые отражают индивидуалистическую концепцию, подчеркивающую автономию личности. Оба подхода содержат элементы инструментального действия, но по-разному трактуют его роль в контексте формальных организационных структур и придают важность политическим институтам в обществе.
Общественная концепция видит демократическое государство и общество как систему прочных институтов, правил и ролей. Индивидуалистическая концепция анализирует политическую и социальную деятельность как результат взаимодействия автономных индивидуальных акторов, которые стремятся достичь своих целей путем рационального расчета ожидаемых результатов. В этом подходе значительное внимание уделяется действиям и решениям отдельных личностей в контексте социальных отношений (March, Olsen, 2006).
Ранее отмечалось значительное разнообразие источников стимуляции человека: предполагалось, что действия могут быть мотивированы привычкой, эмоциями, принуждением, формальными нормами и рассчитанными ожиданиями выгоды в структурированном окружении (Weber, 1978). Современные концепции ограниченной рациональности, подчеркивающие использование людьми упрощенных моделей мира, сегодня имеют большую популярность в исследованиях в области организационной деятельности, экономики и социальных наук. Ограниченная рациональность представляет собой феномен принятия решений индивидом, характеризующийся стремлением к удовлетворению индивидуальных целей, основываясь на ограниченных когнитивных возможностях индивида. Это означает, что человек ищет наилучшее доступное решение с учетом имеющихся ограничений вместо стремления к идеальному варианту (Simon, 1955: 101).
Идеи коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса послужили основанием для формальных организаций уделять внимание человеческому интеллекту (Habermas, 1996). Таким образом, понимание рациональности, как процесса индивидуального вычисления ожидаемой полезности, стало поводом для сомнения формальных корпораций в своей убежденности о полной рациональной разумности индивидов.
В результате «повторного открытия» различий в поведенческой логике индивидов появилась необходимость в том, чтобы теории формальной организации, государственного управления и демократического руководства учитывали разнообразие возможных логик действий, а не предполагали существование единой доминирующей поведенческой модели.
В индивидуалистической концепции правила, роли и структуры рассматриваются как внешние факторы, которые влияют на представление индивида о потенциальной полезности. Административно-политическая организация стремится к созданию системы, которая обеспечивает необходимые стимулы для достижения поставленных целей. В общественной перспективе предполагается, что правила и роли внутренне усваиваются. Этот подход исходит из представления о том, что граждане и публичные деятели могут через образование и внутреннюю мораль разделять чувство политического сообщества, гражданских ценностей и преданности общественному благу.
Формальная структура организации характеризуется рациональностью, контролем, порядком и предсказуемостью. Однако исследователи государственного управления и деятельности правительства отмечают, что административно-политическая сфера может быть структурирована по-разному. В некоторых сценариях деятельность организуется вокруг четких рамок, правил, общих причинно-следственных связей и норм, а также достаточного ресурсного обеспечения для совместных действий. В других сценариях система представляет собой относительно анархичное образование. Отношения менее упорядочены, границы нечетко определены, институты не в полной мере развиты, их поддержка ограничена, участие в них и социальный контроль недостаточно активны (Habermas, 1996: 64).
Предполагается, что наличие формальной структуры должно иметь большую эффективность, чем жесткие организационные механизмы. Следует принимать во внимание более открытые структуры, так как современные организации сталкиваются с внутренней и внешней средой, которые отличаются от традиционных организационных моделей. Организации сталкиваются не только с общими рисками и вероятностями, но также с уникальными событиями и фундаментальной неопределенностью (Blyth, 2006).
Используемые различными субъектами способности к действиям и достижениям определяются, помимо структуры и организации, еще и способностью эффективно распределять ресурсы. Например, понятия «бюрократия» и «демократия» включают в себя нормы, связанные с распределением власти и ресурсов в организации, что, в свою очередь, сильно влияет на возможности различных субъектов (Барков, Маркеева, Гавриленко, 2024). Тем не менее стоит отметить, что ресурсы принадлежат не только индивидуумам и группам, но и являются частью общих институтов. Дискуссия о сбалансированности государственных и частных ресурсов остается объектом споров в контексте нормативной демократической теории. Индивидуалистический подход акцентирует важность частных ресурсов, в то время как коллективистская перспектива отдает приоритет ресурсам, включенным в общественные институты (Адизес, 2017).
Ф. Лалу отмечает, что современный мир находится в периоде изменений, в результате чего традиционные методы управления часто становятся недейственными. В связи с этим компании вынуждены искать новые подходы к обеспечению своей устойчивости в условиях постоянной адаптации (Laloux, 2022). Ф. Лалу сравнивает свою концепцию с теорией спиральной динамики, предложенной К. Грейвсом в 1966 г., выделяя особенности компаний с выдающимися финансовыми результатами и быстрым ростом, где сотрудники имеют большую автономию в принятии решений, называя их «бирюзовыми». Ф. Лалу выделяет ряд этапов развития организаций по всему миру:
-
• красный, подразумевающий управление и разделение труда снизу вверх;
-
• янтарный, представляющий стабильные и регулируемые иерархии;
-
• оранжевый, характеризующийся новаторством, меритократией, ответственностью;
-
• зеленый, отличающийся расширенными правами и возможностями, собственной культурой ценностей и заинтересованными сотрудниками;
-
• бирюзовый, являющийся живым организмом, обладающий целостностью и способностью к самоорганизации.
«Бирюзовые» организации представляют собой категорию организаций будущего или «живых организаций», в которых преобладает коучинг и самоуправление вместо традиционного менеджмента, а также установление целей и ценностей вместо ключевых показателей результативности (KPI). Термин был введен К. Грейвсом, который сравнил эволюцию человеческого развития с разноцветной спиралью, используя бирюзовый цвет для описания глобального уровня сознания (Graves, 1970).
Учитывая отсутствие научных исследований по внедрению методов управления инновациями в «бирюзовых» организациях в России, исследование именно этой категории приобретает особое значение. Новые подходы к управлению людьми в компаниях оказываются наиболее эффективными методами инновационного менеджмента, переходя от отрицательной мотивации к гибким графикам работы, увеличивая доверие к сотрудникам и тем самым повышая их ответственность. Это позволяет не только улучшить качество продукции и расширить сферу продаж, но и установить непрерывное взаимодействие со своей аудиторией, создавая такой же непрерывный поток ценностей (Antipov et al., 2017: 228).
Методология управления, ориентированная на человеческие ценности, является нехарактерной для большинства российских компаний, что объясняется сформировавшимися советскими управленческими традициями, фокусировавшимися на целях и идеях, и не признававшими индивидуальность работника. Принципы «бирюзовых» организаций становятся новой реальностью, в которой будут успешно действовать инновационные организации и новое поколение специалистов (Яшкин, 2021).
Особенности успеха «бирюзовых» организаций заключаются в их уникальной структуре и подходе к ведению бизнеса, которые делают такие компании схожими с живыми организмами. Сотрудники подобных организаций рассматривают предприятие не как механическое устройство, а как существо с собственной «душой», способное к развитию и росту без постоянного контроля со стороны руководства и строгих стратегических планов. Одной из ключевых черт «бирюзовых» компаний является самоорганизация, которая предполагает переход от жестких вертикальных иерархий к более гибкой, распределенной структуре и активной работе в коллективе.
Кроме того, в таких организациях главной целью является не статическая миссия, а, скорее, процесс ее постоянного развития вместе с компанией и совместное формирование коллективного мышления сотрудников. Персонал в «бирюзовых» организациях воспринимается как индивидуумы, а не простые инструменты для достижения определенных целей. Следовательно, должностные обязанности представлены более гибко и адаптируются к особенностям сотрудников.
Изучение принципов и особенностей работы «бирюзовых» организаций важно не только в целях улучшения качества продукции и расширения сферы продаж, но и создания благоприятной среды для сотрудников, повышения их ответственности и вовлеченности. В России, где преобладают традиционные управленческие методы, внедрение принципов «бирюзовых» организаций может способствовать развитию инновационных компаний и созданию новых рабочих мест, соответствующих современным требованиям рынка.
Изучение и практическое применение принципов «бирюзовых» организаций открывает новые перспективы для развития бизнеса, сотрудников и общества в целом, способствует формированию новой культуры управления, ориентированной на человеческие ценности и индивидуальность каждого работника.
Однако, несмотря на потенциальные преимущества, стоит отметить, что такого рода модель бизнеса еще не полностью изучена, что в свою очередь может породить определенные проблемы и вызовы. Основной фактор, который может осложнять успешное внедрение таких методов управления, – это человеческий аспект. Бизнес, как и любая деятельность, направленная на прибыль, строится на наличии капитала, в том числе интеллектуального, который представлен человеческими кадрами.
Список литературы Теоретические предпосылки формирования теории демократической организации труда
- Адизес И.К. Новые размышления о политике / пер. с англ. Н. Постриган. М., 2017. 247 с.
- Барков С.А., Маркеева А.В., Гавриленко О.В. Инновационная бюрократия в управлении высшим образованием // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2024. Т. 24, № 1. С. 58–72. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2024-24-1-58-72.
- Бибик О.Н. Уголовное наказание через призму теории социального обмена // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2016. № 4 (49). С. 198–203.
- Яшкин А.В. Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход к процессу организации стратегического государственного управления // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 6–2. С. 248–251. https://doi.org/10.17513/vaael.1772.
- Blau P.M. Exchange and power in social life. NY, 1964. 352 p.
- Blyth M. Great punctuations: Prediction, randomness, and the evolution of comparative political science // American Political Science Review. 2006. Vol. 100, no. 4. P. 493–498. https://doi.org/10.1017/S0003055406062344.
- Emerson R.M. Social exchange // Social psychology: Sociological perspectives / ed. by M. Rosenberg and R. Turner. NY, 1981. P. 3–24.
- Emerson R.M. Social exchange theory. Beverly Hills, 1987. 248 p.
- Etzioni A. Modern Organizations. New Jersey, 1964. 132 p.
- Folger R., Konovsky M.A. Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay raise decisions // Academy of Management journal. 1989. Vol. 32, no. 1. P. 115–130. https://doi.org/10.5465/256422.
- Graves C.W. Levels of existence: an open system theory of values // Journal of Humanistic Psychology. 1970. Vol. 10, no. 2. P. 131–155. https://doi.org/10.1177/002216787001000205.
- Habermas J. Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy. Cambridge, 1996. 631 p.
- Homans G.C. Social behavior. NY, 1961. 404 p.
- Jacobsson B., Legreid P., Pedersen O.K. Europeanization and Transnational States: Comparing Nordic Central Governments. L., 2004. 208 p.
- Johnson W.T. Exchange in perspective: the promises of George C. Homans // Behavioral theory in sociology. Routledge, 2021. P. 49–90.
- Laloux F. Reinventing organizations: a guide to creating organizations inspired by the next stage of human consciousness. Brussels. 2022. 360 p.
- Managers as initiators of trust: an exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior / E.M. Whitener [et al.] // Academy of Management Review. 1998. Vol. 23, no. 3. P. 513–530. https://doi.org/10.5465/amr.1998.926624.
- March J. G., Simon H.A. Organizations. New Jersey. 1993. 304 p.
- March, J.G., Olsen J.P. The logic of appropriateness // The Oxford Handbook of Public Policy / ed. by M. Rein, M. Moran, R.E. Goodin. Oxford. 2006. P. 689–708.
- Olsen J.P. The Bergen approach to public administration and political organization // Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2018. Vol. 34, no. 4. P. 188–206. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2018-04-03.
- Organizational models of teal organizations / D.V. Antipov [et al.] // Reliability, infocom technologies and optimization (trends and future directions) : 6th International Conference ICRITO. Noida, 2017. P. 222–230. https:doi.org/10.1109/icrito.2017.8342428.
- Perrow C. Complex organizations: a critical essay. 3rd ed. New York, 1993. 322 p.
- Simon H.A. A behavioral model of rational choice // The Quarterly Journal of Economics. 1955. Vol. 69, no. 1. P. 99–118. https://doi.org/10.2307/1884852.
- Weber M. Economy and Society / ed. by G. Roth, C. Wittich. Berkeley, 1978. 756 p.