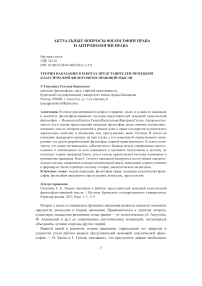Теории наказания в работах представителей немецкой классической философско-правовой мысли
Автор: Гнеушева Татьяна Борисовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Актуальные вопросы философии права и антропологии права
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о природе, целях и сущности наказания в контексте философско-правовых взглядов представителей немецкой классической философии - Иммануила Канта и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Автором отмечается, что в основе представлений немецких философов лежит понятие «возмездие», имеющее долгую историю развития в рамках идеи о праве государства осуществлять карательную политику в отношении лиц, преступивших закон. Взгляды И. Канта на наказания неразрывно связаны, на наш взгляд, с его концепцией «нравственного императива» и в целом разработанной философом теорией нравственности. В статье отмечается, что поиск оптимального, «абсолютного» баланса между совершенным преступлением и назначенным за него наказанием в принципе недостижим и поэтому не позволяет теории наказания Канта лечь в основу практической системы назначения и применения наказания. Идеи Г. Гегеля о наказании базируются на его общем диалектическом подходе, выявлении сложных взаимосвязей между наказанием и преступлением и формируют более стройную систему «теории диалектического возмездия».
Теории наказания, философия права, немецкая классическая философия, философия наказания и преступления, возмездие, преступление
Короткий адрес: https://sciup.org/148325924
IDR: 148325924 | УДК: 343.01 | DOI: 10.18101/2658-4409-2023-1-5-9
Текст научной статьи Теории наказания в работах представителей немецкой классической философско-правовой мысли
Гнеушева Т. Б. Теории наказания в работах представителей немецкой классической философско-правовой мысли // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2023. Вып. 1. С. 5–9
Вопрос о целях и социальных функциях наказания является одним из основных предметов дискуссии в теории наказания. Применительно к данному вопросу существует множество различных точек зрения — от теологических (А. Августин, Ф. Аквинский и др.) до современных синтетических концепций, пытающихся объединить лучшие стороны других теорий.
Важной вехой в развитии теории наказания, определении его природы и сущности стали работы видных представителей немецкой классической философии — И. Канта и Г. Гегеля, считавших, что преступное деяние необходимо рассматривать в ретроспективе, то есть как уже происшедшее и вызвавшее негативные последствия, а потому наказание сводится лишь к реакции на уже совершенное деяние и представляет собой возмездие преступнику за злодеяние.
В основе теорий наказания, разработанных в немецкой классической философии, лежит понятие «возмездие» как ключевой элемент карательной политики общества и государства. Еще в Древнем мире такой подход нашел свое выражение в принципе талиона — воздаяния равным за равное. Следы этого принципа в том или ином виде можно обнаружить практически во всех источниках древнего законодательства (Судебник Хаммурапи, Законы Ману, Законы XII таблиц и многих других). Наказание при этом зачастую сводится к реализации человеком или группой лиц чувства мести. Эта теория отразилась и во взглядах ряда философов. И. Кант рассматривал наказание как проявление «нравственного возмездия», отрицал мотивы личной мести или иной приземленной выгоды при применении наказания, так как это противоречило представлениям философа о моральном, нравственном характере отношений, сформулированном в положениях знаменитого «кантовского» категорического императива. В рамках этого нравственного императива наказание выступает как средство защиты личности нарушителя как существа, обладающего разумом и прирожденным достоинством. Невозможно избегнуть наказания, не поправ чести преступника. Как утверждает Кант: «Карающий закон есть категорический императив, и горе тому, кто в изворотах учения о счастье пытается найти нечто такое, что по соображениям обещанной законом выгоды избавило бы его от кары или хотя бы от какой-то части ее... ведь, если исчезнет справедливость, жизнь людей на земле уже не будет иметь никакой ценности» [2, c. 256].
По существу, соединив представления о справедливости воздаяния равным за равное со своим «категорическим императивом», И. Кант приходит к выводу о необходимости «наказывать убийство смертной казнью, изнасилование — кастрацией, скотоложство — изгнанием из человеческого общества» [5, c. 89]. Его представления о нравственности требуют, чтобы воздаяние за совершенное преступление было осуществлено на началах равенства и соответствия между преступлением и наказанием. В то же время философ понимал невозможность буквальной реализации принципа талиона в современном ему обществе. Так, за оскорбление нельзя отплатить деньгами, ибо они несравнимы с посягательством на честь и достоинство личности. Справедливость требует, чтобы преступник, нанесший обиду, был обязан судом поцеловать руку пострадавшего, тем самым претерпев унижение и своего достоинства. Если человек благородного происхождения нанес увечье простолюдину, то он должен не только извиниться, но и быть подвергнут заключению, то есть не только моральному, но и физическому ограничению. За убийство следует наказывать казнью, так как нет ничего сравнимого с человеческой жизнью. При этом любое наказание вступает силу только по судебному приговору, так как только суд в рамках законной процедуры может обеспечить реализацию требований категорического императива и справедливости. Однако философ допускает и исключения из правил. Так, по его мнению, не следует наказывать казнью убийство незаконнорожденных детей, а также убийство на дуэли. Кант объясняет это тем, что даже закон не может заставить забыть о факте незаконного рождения, а также очистить честь офицера, не пожелавшего из страха защитить себя от нанесенного ему оскорбления [3, c. 287]. Кант негативно воспринимает и случаи освобождения преступников от наказания, так как это не соответствует положениям его нравственного императива, затрудняет обеспечение справедливости.
В теории нравственного воздаяния Канта основную проблему составляет определение точного соотношения между злом, причиненным преступлением, и воздаянием самому преступнику. Еще сложнее определить такое соответствие при совершении преступлений против государства и общественного порядка, когда объектом преступного воздействия является абстрактное явление — государство [4, c. 43]. Также эта проблема возникает при оценивании преступлений, значительно выходящих за границы обычного, ординарного нарушения закона (например, геноцид, особо жестокие убийства). И даже тогда, когда установление соответствия между содеянным и назначенным наказанием возможно, последнее все равно является достаточно однообразным (лишение свободы, денежные штрафы и т. д.).
Кант полагал, что вид наказания и его тяжесть должны зависеть не только от характера преступления, но и от личности самого нарушителя. Так, в случае бунта против действующей власти одни его участники действуют из благородных побуждений, стремясь улучшить порядок управления и добиться справедливости, тогда как другие лишь жаждут личной власти, руководимы местью или иными низменными мотивами. Конечно, первые при этом должны понести менее строгое наказание, чем вторые. Однако люди благородных намерений, скорее, предпочтут смерть каторге, которую выберут люди низких нравственных качеств. Тем не менее абсолютная справедливость все же требует смертной казни для любого человека, выступившего против общей безопасности, хранителем которой является государство. А потому И. Кант приходит к мысли, что казнь — это оптимальная уравнительная мера, справедливая по отношению ко всем бунтовщикам.
Можно сделать вывод, что теория наказания, базирующаяся на категорическом императиве Канта, все же не обеспечивает достижение главной цели (ею же и поставленной) — осуществление абсолютной справедливости ввиду невозможности точно уравновесить преступление и следующее за него возмездие, подобрать абсолютный эквивалент причиненного вреда.
Более обоснованной, по нашему мнению, является теория наказания, разработанная Г. Гегелем, и получившая название «теория диалектического возмездия». Исходным положением этой теории является характеристика права как проявления разумной воли — изначальной идеи. Совершаемое преступление нарушает право, тем самым отрицая его идею. Для устранения возникшего противоречия между правом и не-правом (преступлением) необходимо наказание, в свою очередь, отрицающее совершенное преступление и вновь устанавливающее идею права. Поэтому наказание не просто целесообразно, но и логически необходимо для устранения возникающего в результате совершения преступления противоречия и развития идеи изначального права. Суть наказания состоит не в причинении моральных или физических страданий, а в реализации диалектического закона двойного отрицания. Потому сам философ рассматривал свою теорию наказания как теорию восстановления (изначальной идеи права), а не возмездия.
Не-право (неправда) представляет собой отрицание изначальной идеи права и развивается на протяжении трех стадий. На первой стадии формируется бессознательная неправда, при которой противоречия существуют постольку, поскольку каждая из сторон считает себя правой. Вторая стадия предполагает уже сознательный обман, введение одной из сторон в заблуждение и тем самым нарушение права. На третьей стадии совершается уголовное преступление, когда нарушитель выступает против права, нарушая закон сознательно и явно.
Выраженная в праве (законе) абсолютная воля, по Гегелю, имеет трансцендентальный характер, а потому не подвержена воле преступной. Последняя в процессе преступного деяния отрицает свое разумное начало. Сущность наказания при этом выражается в отрицании отрицания права и его последующем восстановлении через определение ничтожности самого преступления [1, c. 145]. Гегель не определяет конкретные методы наказания, ограничиваясь общим принципом воздаяния, — если преступную волю можно выразить через качественные и количественные характеристики, то соответствовать им должно и наказание. Однако в отличие от концепции И. Канта в данном случае наказание определяется не внешними характеристиками преступного деяния, а мерой преступной воли. И именно через соответствие меры преступной воли и меры наказания обеспечивается справедливость.
Достоинством рассмотренной теории является то, что само наказание приобретает правовой публичный характер, направленный на обеспечение абсолютной справедливости. Поэтому в рамках этой концепции несовместимы месть и наказание. Как пишет Гегель: «Будучи позитивным деянием особенной воли, месть становится новым нарушением; в качестве такого противоречия она оказывается внутри продвижения, уходящего в бесконечность, и передается по наследству от поколения к поколению» [1, c. 151]. Наказание же, назначенное судом, является не волей судей как частных лиц, а «всеобщей волей закона, и они не стремятся вкладывать в наказание то, чего нет в природе вещей» [1, c. 152]. Пострадавшему же от преступления невозможно придерживаться рамок справедливого возмездия, а потому его самосуд лишь приводит к новому отступлению от права.
На основе изложенного можно сделать вывод о том, что рассмотренные выше теории наказания объединяет ретроспективный подход: наказание есть реакция на совершенное в прошлом преступление, его логическое следствие, оправданное с позиций божественной справедливости, внутренней совести или общей разумности сложившегося жизненного уклада. Само преступление обязывает к наказанию, у последнего нет какой-либо особой перспективной цели, оно лишь следствие уже совершенного деяния.
Список литературы Теории наказания в работах представителей немецкой классической философско-правовой мысли
- Гегель Г. Философия права. Москва: Мысль, 1990. С. 145. Текст: непосредственный.
- Кант И. Метафизика нравов: собрание сочинений: в 6 томах. Москва: Мысль, 1963. Т. 4, ч. 2. С. 256. Текст: непосредственный.
- Кант И. Основы метафизики нравственности. Москва: Мысль, 1999. 1472 с. Текст: непосредственный.
- Колоколов Н. А. Философия наказания: эволюция нравственности // История государства и права. 2016. № 10. С. 42-47. Текст: непосредственный.
- Пионтковский А. А. Уголовно-правовые воззрения Канта, А. Фейербаха и Фихте. Москва: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. С. 79-89. Текст: непосредственный.