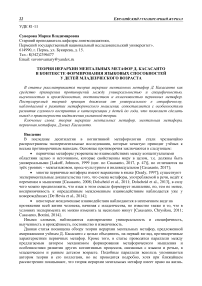Теория иерархии ментальных метафор Д. Касасанто в контексте формирования языковых способностей у детей младенческого возраста
Автор: Суворова Мария Владимировна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общие вопросы языкознания
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается теория иерархии ментальных метафор Д. Касасанто как средство примирения противоречий между универсальностью и специфичностью, выученностью и врождённостью, постоянством и изменчивостью первичных метафор. Постулируемый теорией принцип движения от универсального к специфичному, наблюдаемый в развитии метафорического мышления, сопоставляется с особенностями развития слухового восприятия и категоризации у детей до года, что позволяет сделать вывод о правомерности выдвижения указанной теории.
Теория иерархии ментальных метафор, ментальная метафора, первичная метафора, дэниел касасанто
Короткий адрес: https://sciup.org/147229776
IDR: 147229776 | УДК: 81-11
Текст научной статьи Теория иерархии ментальных метафор Д. Касасанто в контексте формирования языковых способностей у детей младенческого возраста
В последние десятилетия в когнитивной метафорологии стали чрезвычайно распространены экспериментальные исследования, которые зачастую приводят учёных к весьма противоречивым выводам. Основные противоречия заключаются в следующем:
-
• первичные метафоры укоренены во взаимодействиях между концептуальными областями целью и источником, которые свойственны миру в целом, т.е. должны быть универсальными [Lakoff, Johnson, 1999 (цит. по Casasanto, 2017, p. 47)], но отличаются на трёх уровнях – межъязыковом, кросс-культурном и индивидуальном [Casasanto, 2017];
-
• многие первичные метафоры имеют выражение в языке [Grady, 1997]; существуют экспериментальные доказательства того, что смена метафоры, употребляемой в речи, ведёт к переменам в мышлении [Casasanto, 2008; Dolscheid et al., 2011; Dolscheid et al., 2013], в силу чего можно предположить, что язык в этом смысле формирует мышление, но, тем не менее, восприимчивость к определённым междоменным взаимодействиям наблюдается уже у новорождённых [De Hevia et al., 2014];
-
• некоторые междоменные взаимодействия наблюдаются в неизменном виде на протяжении всей жизни человека, начиная с младенчества, но известно также и то, что в условиях эксперимента их можно изменить за несколько минут [Casasanto, Chrysikou, 2011; Casasanto, Bottini, 2014].
Иными словами, наблюдаются одновременно универсальность и специфичность, выученность и врождённость, постоянство и изменчивость.
Данная статья посвящена обзору теории иерархии ментальных метафор, предложенной американским учёным Д. Касасанто с целью объединить, на первый взгляд, противоречивые характеристики первичных метафор. Кроме того, в статье проводятся параллели между предлагаемым автором механизмом формирования метафорического мышления и особенностями развития других когнитивных процессов, связанных с языком и речью, в младенческом и раннем детском возрасте. Подобные параллели вскользь упоминаются автором теории и его коллегами, но не проводятся подробно, хотя при ближайшем рассмотрении показывают, что теория иерархии ментальных метафор имеет право на жизнь.
Степень раскрытия вопроса позволяет данной статье играть роль обзора литературы по проблеме. Следует отметить, что список привлечённых источников включает не только материалы, рекомендованные Д. Касасанто и его коллегами в связи с выдвигаемой теорией, но и не упоминаемые ими исследования сходной тематики.
Основная часть
Впервые теория иерархии ментальных метафор (hierarchical mental metaphor theory) была выдвинута в статье Mirror-reading can reverse the flow of time (2014), написанной Дэниелом Касасанто совместно с Роберто Боттини [Casasanto, Bottini, 2014], однако случилось так, что в связи с особенностями публикационного процесса раньше неё, в 2013 году, была опубликована работа Development of metaphorical thinking: The role of language , где также излагаются основные положения теории [Casasanto, 2013].
В обеих статьях теория иерархии ментальных метафор представлена как способ разрешения парадоксов, сформулированных во введении к данной статье. В 2017 г. рассматриваемой теории уже посвящена отдельная статья с соответствующим названием The hierarchical structure of mental metaphors [Casasanto, 2017].
Каким же образом теория иерархии ментальных метафор снимает противоречия между универсальностью и специфичностью, выученностью и врождённостью, постоянством и изменчивостью? Предложенный ниже ответ на данный вопрос и соответствующий обзор теории даны по статье 2017 года с привлечением информации о более ранних исследованиях.
Первым шагом в разрешении парадоксов является допущение о том, что основные ментальные метафоры формируются в несколько этапов на основе разных форм опыта [Casasanto, 2017].
Вторым шагом является введение понятия иерархии, которая предполагает существование так называемой «вышестоящей семьи междоменных взаимодействий» (superordinate family of mappings) [там же, p. 49]. Такие семьи взаимодействий возникают на основе отношений, существующих между объектами и явлениями в окружающем мире, например, между временем и пространством или звуком и пространством. Каждая семья состоит из нескольких метафор, которые могут быть использованы для осмысления области-цели, например, продолжительность промежутка времени можно представить с позиций приращения количества или удлинения дистанции, характеристики звука можно представить через высоту или толщину (что не свойственно русскому языку, но свойственно языку фарси).
Существует два основных объяснения того, как человек приобретает способность мыслить с помощью таких метафор: некоторые учёные, в особенности те, кто изучает мышление младенцев, считают, что эта способность является врождённой, поскольку восприимчивость к междоменным взаимодействиям наблюдается уже у новорождённых [De Hevia et al., 2014], другие исследователи полагают, что она формируется на раннем этапе жизни на основе наблюдения за окружающим миром [Lakoff, Johnson, 1999 (цит. по Casasanto 2017, p. 47)]. Каким бы ни был ответ на этот вопрос, сами семьи являются универсальными, поскольку универсальными являются взаимодействия соответствующих объектов и явлений в реальном мире. Так, где бы мы ни находились, чем большую дистанцию проходит тело, тем больше времени на это требуется, чем выше произносимый звук, тем выше поднимается гортань и т.д. В усвоении семей междоменных взаимодействий состоит первый этап процесса формирования метафорического мышления.
После того, как вышестоящие семьи усвоены, начинается процесс диверсификации, который представляет собой второй этап формирования метафорического мышления. Находясь под влиянием изучаемых языков, включая родной, разных культур и собственного тела, человек начинает всё чаще пользоваться лишь частью междоменных взаимодействий для осмысления области-цели, в то время как остальные члены семьи теряют значимость [Casasanto, 2017, p. 49]. Особенности ассоциативного мышления и долговременной памяти приводят к тому, что между одними источниками и целью устанавливается прочная активная связь, а между другими источниками и той же целью связь ослабевает.
Например, если родным для ребёнка является английский язык, то он заставит чаще активировать ассоциацию между звуком и физической высотой, а если родным является язык фарси – то ассоциацию между звуком и толщиной [Dolscheid et al., 2011; Dolscheid et al., 2013]. Если в культуре принято читать слева направо, то в том же направлении повернётся латеральная ментальная ось времени, если же в культуре принято читать справа налево, то эта ось времени будет иметь обратное направление [Casasanto, Jasmin, 2012; Tversky, Kugelmass, Winter, 1991]. Если ведущей рукой является правая, то именно с правой стороной будет имплицитно ассоциироваться хорошее, тогда как для человека с ведущей левой рукой ассоциация будет противоположной и хорошее окажется слева [Casasanto, 2009]. Так, при универсальном наборе междоменных взаимодействий, доступных от рождения, у разных людей постепенно формируются совершенно разные ментальные метафоры и, соответственно, совершенно разные способы мышления.
В существовании вышестоящих семей междоменных взаимодействий, по мысли авторов теории, кроется и объяснение гибкости метафорического мышления. Если взаимодействие, которое мы пытаемся активировать, не противоречит особенностям реального мира, оно уже содержится в пассивном виде в мышлении человека и не выучивается, а именно активируется в процессе обучения [Casasanto, 2017, p. 50].
Этому есть экспериментальное подтверждение. Если при попытке обучить носителей голландского языка использованию несвойственных ему метафор толщины (высокий = тонкий, низкий = толстый) для описания высоты звука оказалось возможным за 20 минут добиться интерференции визуальной информации о толщине объекта, представленного на экране, одновременно со звучащей нотой, при оценке высоты звука, то при попытке обучить противоположным ассоциациям (высокий = толстый, низкий = тонкий) за то же время никакой значимой интерференции получить не удалось [Dolscheid et al., 2013]. Исследователи связывают это именно с тем, что в реальном мире мы наблюдаем связь между объектами более маленькими и тонкими и более высокими звуками, например, при игре на музыкальных инструментах более тонкие струны дают более высокий звук, а вот обратной связи между толщиной и высотой звука, как правило, не наблюдаем. Можно сказать, что мы способны переключаться между активными и пассивными ассоциациями, входящими в фиксированный набор междоменных взаимодействий, возникших на основе свойств реального мира и отражающих их. Это, своего рода, гибкость в заданных рамках.
Таким образом, теория иерархии ментальных метафор позволяет на разных этапах формирования метафорического мышления дать место как универсальности, так и специфичности, как врождённости, так и выученности, как фиксированности, так и гибкости.
Механизм формирования метафорического мышления, предлагаемый Д. Касасанто, не является уникальным для метафоры. Такой же механизм наблюдается при изучении развития слухового восприятия звучащей речи. С. Дольшид и её коллеги упоминают этот факт в статье Prelinguistic infants are sensitive to space-pitch associations found across cultures (2014), обсуждая результаты эксперимента, который показал, что четырёхмесячные дети способны воспринимать сходство как между высотой звука и физической высотой, так и между высотой звука и физической толщиной: «Infants’ tendency to look longer at congruent stimuli was similar in the height and thickness tasks, which suggests a comparable starting point for heightpitch and thickness-pitch mappings» [Dolscheid et al., 2014, p. 1259].
По мысли авторов эксперимента, полученные результаты показывают универсальность восприятия детьми до года междоменных взаимодействий, которые свойственны разным лингвокультурам. Дети, о которых идёт речь в статье С. Дольшид, по национальности являются голландцами; голландскому языку, как было сказано выше, не свойственна метафора PITCH IS THIKNESS, и взрослые носители голландского языка только в экспериментальных условиях демонстрируют влияние этой метафоры на мышление, в остальных случаях данная ассоциация пассивна и никак не проявляется ни в языке, ни в поведении. Дети же, в свою очередь, демонстрируют способность распознавать обе группы ассоциаций, поскольку языком они ещё не овладели.
-
С. Дольшид и её коллеги не проводят параллель с развитием слухового восприятия звучащей речи подробно, указывая только, что ещё в конце ХХ в. уже были проведены исследования, которые подтвердили ухудшение способности различать звуки неродного языка под влиянием языка родного в течение первого года жизни [Werker, Tees, 1984]. Для достижения цели, заявленной в статье, необходимо более подробно рассмотреть особенности развития слухового восприятия звучащей речи на материале современных исследований.
Обратимся к исследованию профессора Патриции Куль, которая совместно с группой учёных из США, Великобритании и Японии изучила развитие восприятия звуков родного и неродного языков детьми в возрасте от 6 до 12 месяцев. Эксперимент заключался в установлении того, каким образом отличается изменение способности различать звуки /r/ и /l/ американского варианта английского языка в сочетаниях /ra/ и /la/ детьми из США и Японии в двух возрастных группах: 6-8 месяцев и 10-12 месяцев [Kuhl et al., 2006].
Исследование показало, что в возрасте 6-8 месяцев и американские, и японские дети одинаково способны различать используемые в эксперименте звуки английского языка, а в возрасте 10-12 месяцев эта способность у обеих групп изменяется: американские дети начинают различать эти звуки лучше, чем в более раннем возрасте, а японские – хуже; при этом только показатели американских детей двух возрастов отличаются статистически значимо [Kuhl et al., 2006, p. F16-F17]. Данные результаты позволили учёным впервые продемонстрировать, что восприятие звуков родного языка изменяется в сторону упрощения (facilitation) уже на первом году жизни.
Как и в развитии метафорического мышления, так и в развитии слухового восприятия наблюдаются сходные тенденции, заключающиеся в том, что сначала и метафорическому мышлению, и слуховому восприятию свойственна универсальность, которая с течением времени и увеличением опыта взаимодействия с родным языком уступает место специфичности, обусловленной особенностями этого языка и лингвокультуры в целом. При этом как способность понимать метафоры других языков, так и различать их звуки сохраняется и может быть развита в процессе обучения.
Помимо исследований, направленных на изучение особенностей восприятия звуков родного и неродного языков, были проведены эксперименты, демонстрирующие наличие подобного механизма и при усвоении лексики, что, в свою очередь, связано с особенностями сегментации реальности представителями разных лингвокультур.
В серии исследований за основу были взяты концептуальные различия, вербализуемые глаголами английского и корейского языков [Choi et al., 1999; Hespos, Spelke, 2004]. В английском языке есть фразовые глаголы to put in и to put on , обозначающие действия, приводящие, соответственно, к нахождению одного объекта внутри другого и к соприкосновению нижней поверхности одного объекта с верхней поверхностью другого. Чтобы понимать значения этих глаголов, необходимо понимать, чем отличаются описываемые ими действия и варианты соположения, к которым они приводят.
В корейском языке есть глагол 끼다 , который можно употреблять в отношении действий, приводящих к плотному соприкосновению двух объектов, например, 내재킷이차문에 끼었다 – «Мой пиджак защемило дверью автомобиля». В ряде случаев значение корейского слова совпадает со значением фразового глагола to put in , а в ряде случаев – нет, чем и воспользовались исследователи при планировании эксперимента.
Дети 18-23 месяцев смотрели на пары изображений, слушая предложения, содержащие либо не содержащие целевые слова. Часть изображений могли быть описаны как корейским, так и английским целевым словом, а часть – либо одним, либо другим. Результаты показали, что звучащие слова влияли на общее время, которое дети смотрели на то или иное изображение: «They devote a greater proportion of their total looking time to the language- appropriate matching scene when they hear their target word for their language than when they do not» [Choi et al., 1999, p. 261]. Из этих данных авторы исследования заключили, что к возрасту полутора-двух лет дети приобретают восприимчивость к категориям, актуальным для носителей их родного языка (language-specific categories).
Исследования в том же направлении были продолжены через несколько лет с участием детей в возрасте 5 месяцев. Учёным удалось доказать, что дети, растущие в окружении носителей английского языка, как и взрослые носители корейского языка, умеют различать действия, приводящие к плотному и неплотному соприкосновению, несмотря на то, что в английском языке данное различие не маркировано. Интерпретируя результаты эксперимента, авторы исследования указывают на то, что данная способность свойственна также приматам, из чего они заключают, что она, вероятно, возникает до появления языка у человека как вида и до усвоения родного языка в онтогенезе [Hespos, Spelke, 2004].
Данные эксперименты показывают, что категоризации так же, как метафорическому мышлению и слуховому восприятию звучащей речи, сначала свойственна универсальность, а затем постепенно усиливается её лингвокультурно обусловленная специфичность. При этом способность категоризировать объекты и явления иначе, чем это предполагает родной язык, сохраняется, в силу чего остаётся возможным изучать иностранные языки.
Заключение
Подводя итог рассмотрению теории иерархии ментальных метафор и более широкого научного контекста, в который она может быть вписана, необходимо сказать, что данная теория снимает кажущиеся противоречия между универсальностью и специфичностью, выученностью и врождённостью, постоянством и изменчивостью первичных метафор, демонстрируя, что данные характеристики свойственны метафорическому мышлению на разных этапах его развития.
Тот факт, что движение от универсальности к специфичности можно обнаружить при изучении не только метафорического мышления, но и слухового восприятия звучащей речи, а также категоризации объектов и явлений, показывает, что теория иерархии ментальных метафор не противоречит универсальным принципам развития мышления человека.
Тем не менее, теория, безусловно, подлежит дальнейшей экспериментальной проверке, поскольку данные, положенные в её основу, касаются лишь нескольких языков и культур. Теория открывает интересные перспективы для проведения кросс-культурных исследований, педагогических, психо- и социолингвистических экспериментов, а также исследований человека разумного в сравнении с другими приматами.
Список литературы Теория иерархии ментальных метафор Д. Касасанто в контексте формирования языковых способностей у детей младенческого возраста
- Casasanto D. Embodiment of abstract concepts: Good and bad in right- and left-handers // Journal of Experimental Psychology: General. 2009. № 138(3). P. 351-367.
- Casasanto D. Relationships between language and cognition // Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics. B. Dancygier (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 19-37.
- Casasanto D. The hierarchical structure of mental metaphors // Metaphor: Embodied cognition and discourse. B. Hampe (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 46-61.
- Casasanto D. Who's afraid of the Big Bad Whorf? Cross-linguistic differences in temporal language and thought // Language Learning. 2008. № 58(1). P. 63-79.
- Casasanto D., Bottini R. Mirror-reading can reverse the flow of time // Journal of Experimental Psychology: General. 2014. № 143(2). P. 473-479.