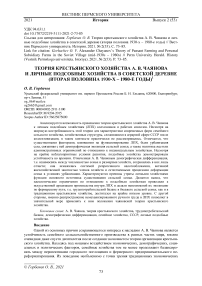Теория крестьянского хозяйства А. В. Чаянова и личные подсобные хозяйства в советской деревне (вторая половина 1930-х - 1980-е годы)
Автор: Горбачев О.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Человек, власть и технологии в экономической истории
Статья в выпуске: 2 (53), 2021 года.
Бесплатный доступ
Анализируется возможность применения теории крестьянского хозяйства А. В. Чаянова к личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) колхозников и рабочих совхозов. Несмотря на широкую востребованность этой теории для характеристики современных форм семейного сельского хозяйства, хозяйственные структуры, сложившиеся в аграрной сфере СССР после коллективизации, в таком контексте практически не рассматривались. Отмечается, что существенными факторами, влиявшими на функционирование ЛПХ, были урбанизация села, связанная с ней демографическая эволюция сельской семьи, а также политика жестких административных ограничений по отношению к индивидуальным хозяйствам. Несмотря на крайне неблагоприятные условия развития, подсобные хозяйства демонстрировали устойчивость во времени. Отмеченная А. В. Чаяновым демографическая дифференциация, т.е. взаимосвязь между численностью семьи и размерами хозяйств, сохранилась в них лишь отчасти; она искажалась системой репрессивного налогообложения, активной внехозяйственной занятостью членов хозяйств и естественными процессами деформации семьи в условиях урбанизации. Характеризуются причины утраты личными хозяйствами функции основного источника существования сельской семьи. Делается вывод, что идеологические ограничения по отношению к подсобным хозяйствам приводили к искусственной архаизации производства внутри ЛПХ и делали невозможной их эволюцию по фермерскому пути, т.е. трудопотребительский баланс в бюджете сельской семьи, как и в традиционном крестьянском хозяйстве, достигался на крайне низком уровне. С другой стороны, именно распространение немеханизированного ручного труда в ЛПХ позволяет в значительной мере применять к ним положения чаяновской теории крестьянского хозяйства.
А. в. чаянов, теория крестьянского хозяйства, трудопотребительский баланс, демографическая дифференциация, семейное хозяйство, ссср, личные подсобные хозяйства
Короткий адрес: https://sciup.org/147246370
IDR: 147246370 | УДК: 94.631.1 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-2-73-85
Текст научной статьи Теория крестьянского хозяйства А. В. Чаянова и личные подсобные хозяйства в советской деревне (вторая половина 1930-х - 1980-е годы)
Одной из основных причин сохраняющегося интереса к наследию А. В. Чаянова является устойчивость семейного сельскохозяйственного производства в разных частях мира, вполне очевидная даже спустя десятилетия после создания экономистом теории организации крестьянского хозяйства. Находясь под мощным воздействием экономических, демографических, социальных и политических факторов, семейные хозяйства тем не менее продолжают балансировать между перспективами городского поглощения и фермерского предпринимательского переформатирования. Их поведение необъяснимо с точки зрения традиционных экономических
воззрений, наталкивающихся на отсутствие у членов крестьянских хозяйств предпринимательских амбиций [ Скотт , 1992; Круглый стол…, 2018, с. 85–89; Плуг ван дер , 2017].
После нескольких десятилетий забвения интерес к «крестьянской экономической теории» был актуализирован в 1960-е гг. с целью изучения экономики развивающихся стран (теории Х. Н. Барнума – Л. Сквайра, Г. Беккера, Дж. В. Мейлора, А. Лоу, С. Накаимы, А. Сена и др.) [ Чаплыгина , 2006, с. 30; Виноградова , 2003, с. 4]. 1970–1980-е гг. были отмечены значительным числом зарубежных работ на тему теории крестьянского хозяйства. В них обычно делался акцент на несоответствии чаяновских идей теории капиталистического развития К. Маркса (см. напр., [ Adams , 1986; Harrison , 1975; Lehmann , 1982; Millar , 1970]). В том или ином виде теория крестьянского хозяйства Чаянова фигурирует в большом количестве публикаций последнего времени (см. напр., [ Jean Emigh , 2001; Padró et al., 2019; Saito , 2011; и др.]).
В России интерес к чаяновскому наследию пробудился, начиная со второй половины 1980-х гг., при этом гораздо большее внимание уделялось теории сельскохозяйственной кооперации, нежели взглядам Чаянова на крестьянское хозяйство [ Виноградова , 2003, с. 5]. Исключение – работы представителей крестьяноведческого направления, институализированного усилиями А. А. Никонова, Т. Шанина и В. П. Данилова в 1990-е гг. (см. [ Никонов , 1995; Рефлексивное крестьяноведение…, 2002; Современное крестьяноведение…, 2015; Шанин , 2019; и др.]). Расширение исследовательского поля состоялось за счет привлечения демографических, политических, социопсихологических и иных сюжетов, в которые, как оказалось, довольно легко вписалась теория Чаянова2.
Некоторая романтизация чаяновских взглядов на крестьянское хозяйство, которая присутствовала в отечественной науке в 1990-е – начале 2000-х гг., в определенной степени объясняется преждевременной гибелью ученого, сформировавшей атмосферу недосказанности вокруг его наследия. Другим обстоятельством, заставляющим с симпатией относиться к работам Чаянова, является стремление современных авторов преодолеть советский экономоцентристский дискурс. Здесь многих из них подстерегала другая опасность – они попадали под обаяние «неопопулистской» традиции, заставлявшей сторонников организационно-производственного направления еще в начале XX в. преувеличивать жизненные силы крестьянства и его способность выживать в любых условиях (см. [ Harrison , 1975, p. 390]).
Символическая граница, заданная политикой коллективизации, отчетливо делит историю семейного крестьянского хозяйства в России XX в. на «до» и «после». Характеристика сельских домохозяйств первой трети XX в. с позиций чаяновской теории давно стала общим местом. Большинство современных исследователей ассоциирует появление колхозов с раскрестьяниванием; кроме того, кооперация деревни «по-сталински» коренным образом отличалась от чаяновских представлений об этом процессе. Такая ситуация, казалось бы, менее всего располагает к применению чаяновских характеристик к формам семейного сельскохозяйственного производства, сложившимся в рамках колхозной и совхозной экономики. Однако, если чаянов-ская теория оказалась актуальной не только для понимания нэповской деревни, но и для современных реалий, то неизбежно возникает ощущение лакуны, недоисследованности советского сельского мира3.
Мы исходим из того, что описанное Чаяновым крестьянское хозяйство было не вполне уничтожено коллективизацией и продолжило существование в рамках колхозной экономики в новом, сильно редуцированном качестве, в виде личных подсобных хозяйств. Несмотря на строгие ограничения, ЛПХ оказались довольно устойчивыми и сохранялись до конца советского периода, постепенно трансформируясь в современные формы семейных домохозяйств.
В рамках настоящей статьи предполагается определить, насколько уместно применение к советским ЛПХ критериев чаяновской теории крестьянского хозяйства. Взгляд на личные хозяйства с точки зрения этой теории позволит более аргументированно обосновать причины устойчивости феномена ЛПХ в специфических условиях советского социально-экономического администрирования, а также определить его место в системе ценностей советского общества. Таким образом, расширяется проблемное поле крестьяноведческих исследований, прежде всего с точки зрения возможности применения положений концепции «моральной экономики» Дж. Скотта к структурным изменениям сельского социума в ходе советской модернизации [ Скотт , 1992].
Достаточно широкие хронологические рамки работы определяются периодом существования ЛПХ (от момента появления в ходе коллективизации и до конца существования СССР), в границах которого их сущностные характеристики, а также место в системе экономических и социальных отношений, менялись очень мало.
Теория демографической дифференциации
Основное содержание теории крестьянского семейного хозяйства изложено Чаяновым в работе, вышедшей в 1924 г. [ Чаянов . Организация…, 1989]. В ней в качестве крестьянского хозяйства предлагается рассматривать такое трудовое семейное хозяйство, в котором семья в результате затраты годичного труда получает единый трудовой доход и соизмеряет свои усилия с получаемым материальным результатом [Там же, с. 202].
«Неортодоксальность» исследователя и других деятелей организационнопроизводственного направления с точки зрения экономической науки 1920-х гг. состояла в акцентировании роли демографического фактора в развитии крестьянских хозяйств. Чаянов и его единомышленники считали, что демографические изменения в составе крестьянских семей являются определяющей чертой развития крестьянских хозяйств, решающим образом влияя на возможности удовлетворения их потребностей [ Шанин , 2019, с. 176]. Устанавливая зависимость между размерами хозяйства и численностью крестьянской семьи, Чаянов утверждал, что первичной в этом соотношении является именно семья: от ее размера зависят масштабы производства. На этом основании вводилось понятие демографической дифференциации, определяющей дифференциацию производственную. Оппоненты ученого полагали, что, напротив, размеры производства определяют величину семьи [ Виноградова , 2003, с. 13–16].
Значимость семьи для сельскохозяйственного производства Чаянов определяет на основе того соображения, что технически организующий элемент производственного процесса – это наличные трудоспособные члены семьи [ Чаянов . Организация…, 1989, с. 214]. При этом ученый был склонен относить к членам семьи («потребительским единицам») всех, постоянно питающихся за одним столом. Тем не менее в основе семьи находится супружеская пара с восходящими (родителями) и нисходящими (потомками) линиями [Там же, с. 215].
Чаянов ввел понятие цикла развития семьи, высшей точкой которого он считал наибольшую производственную эффективность, определяя ее через соотношение едоков и работников (е/р). Наибольшую эффективность отражает значение коэффициента 1,0 (молодые супруги без детей). Самое высокое соотношение е/р наблюдается на 14-м году 26-летнего существования семьи (1,94). Большее количество едоков означает соответственный рост потребностей, который, в свою очередь, определяет объем хозяйственной деятельности [Там же, с. 220–221]. Чем больше в семье было работников, тем больше становился и размер хозяйства.
С Чаяновым были не согласны многие не только советские, но и эмигрантские авторы (см. [ Фигуровская , 1989, с. 39–42; Шанин , 2019, с. 187; Harrison , 1975, p. 390]). В дальнейшем под влиянием критики ученый, помимо соотношения едоков и работников, признал и другие критерии, влияющие на размер бюджета крестьянских хозяйств. Среди них он отмечал возможность использования наличных рабочих рук, затраченное рабочее время, интенсивность труда («степень самоэксплуатации»), наличие технических средств производства, природные условия и рыночную конъюнктуру (см. [ Чаянов . Организация…, 1989, с. 231]).
Наиболее же серьезное переосмысление теории предложил соратник Чаянова по организационно-производственному направлению Н. П. Макаров, считавший, что в борьбе биологических и экономических факторов последние в конце концов берут верх [ Макаров , 1920; Крамар , 2018, с. 35]. По причине неполноты эмпирических данных, характеризующих крестьянскую экономику первой трети XX в., победитель в этом споре не выявлен до сих пор [ Шанин , 2019, с. 188].
Ввиду существования в России в начале XX в. значительного количества общин, размеры наделов в которых были мало связаны с численностью отдельных семей, площадь землепользования переставала быть измерителем объема хозяйственной деятельности. На этом основании Чаянов считал необходимым учитывать дуализм крестьянской трудовой занятости, включающей земледелие и промыслы [Чаянов. Организация…, 1989, с. 230]. Однако, выходя за пределы домохозяйства, крестьянский труд утрачивал свою лабораторную чистоту, был вынужден взаимодействовать с рынком труда и капитала. При этом вопросы рыночного воздействия про- мыслового труда на автономный бюджет семейного хозяйства и его влияние на демографическую структуру семьи так и остались неразработанными [Rao, 1986, p. 45].
Ревизия первоначальных положений теории, проведенная самим Чаяновым, а также уточнения, внесенные его последователями, заставляют рассматривать теорию семейного крестьянского хозяйства как достаточно подвижный конструкт, элементы которого подвержены изменениям под влиянием экономических и политических факторов. Как показывает историографическая практика, наиболее востребованными для характеристики разных хозяйственных систем, помимо понятия демографической дифференциации, являются чаяновские оценки роли трудопотребительского баланса для функционирования семьи и значения самоэксплуатации для крестьянского домохозяйства. Другие достижения Чаянова – учение об организационном плане крестьянского хозяйства и о кооперации4 – наиболее интересны специалистам по истории российской деревни первой трети XX в.
Трудопотребительский баланс и самоэксплуатация
Концепция трудопотребительского баланса, связанная с понятием выгодности крестьянского труда, занимает особое место в теории крестьянского хозяйства. Чаянов отмечал, что семьи, обладавшие крупным достатком, не стремились сохранять его, и при изменении демографического баланса сокращали объемы хозяйства [ Чаянов . Организация…, 1989, с. 228–229]. Исходя из того, что немеханизированный сельскохозяйственный труд крайне тяжел, крестьянин вынужден выстраивать соотношение между напряжением труда и возможностью выживания. Когда эта возможность достигнута, крестьянин перестает работать: трудопотребительский баланс найден, определена мера самоэксплуатации . С улучшением условий труда и достижением большей его производительности крестьянин не стремится к получению дополнительной прибыли, а просто меньше работает: в этом случае трудопотребительский баланс фиксируется на более высоком уровне по причине меньшей напряженности труда. В результате интенсивность труда определялась количеством едоков, а не работников [Там же, с. 241].
Как и в случае с теорией демографической дифференциации, при проверке механизма действия трудопотребительского баланса Чаянов был вынужден выходить за границы семейного хозяйства, что позволило, с одной стороны, убедиться в справедливости базовых оснований теории, а с другой – неизбежно ставило вопрос о степени ее универсальности.
Чаяновская теория и модернизация российского села в XX веке
По Чаянову, причиной внехозяйственной занятости крестьян была сложность достижения трудопотребительского баланса в рамках одного лишь семейного хозяйства, главным образом из-за недостатка земли. Другим фактором следует считать неизбежный рост потребительских запросов сельской семьи в условиях расширяющихся контактов деревни с городом.
В конечном счете вовлеченность крестьян в подчиняющуюся законам рынка промысловую деятельность меняла общие правила игры. Чаянов добросовестно фиксирует: «Немало примеров, когда крестьянские хозяйства отхожих и некоторых местных промыслов в очень малой степени используют свои наличные земледельческие средства производства» [Там же, с. 272]. По мнению исследователя, «крестьянская семья в данном случае поступает со своим трудом совершенно так же, как капиталист, дающий своим капиталам то размещение, которое приносит ему наибольший чистый доход» [Там же, с. 272–273]. Однако если капиталист всегда размещает весь свой капитал целиком, то крестьянская же семья никогда не использует своего труда полностью и прекращает его затраты по мере насыщения своих потребностей [Там же, с. 273; Millar , 1970, p. 221–222].
Здесь важно, что для крестьянина приемлемой оказывается низкая оплата труда, дающая возможность существовать в условиях, обрекающих на гибель капиталистическое хозяйство. Этим объясняется исключительная выживаемость крестьянских семейных хозяйств [ Чаянов . Организация…, 1989, с. 251]5.
Чаянов не сомневался: с ростом доходности земледелия работники вернутся к привычной деятельности. В этом проявилась авторская идеализация крестьянского мира, в полной мере заявленная в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920) [Чаянов. Путешествие…, 1989; Никулин, 2018]. Именно крестьянское хозяйство, в котором «труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые фор- мы бытия» [Чаянов. Путешествие…, 1989, с. 183], является желаемой формой человеческого существования. При этом автор уверен в живучести традиционной системы хозяйства с доминированием в ней ручного труда [Там же, с. 177].
Если сохранится ручной труд, то останется и высокая степень его напряженности, подпитывающая идею трудопотребительского баланса. А что произойдет в случае механизации? Сможет ли крестьянин, избавленный от необходимости повседневного выживания, избежать фермерского соблазна получения капиталистической прибыли? Похоже, единственным препятствием в этом случае останется упомянутый диалог с «силами космоса», сохраняющий крестьянскую идентичность.
Концепция трудопотребительского баланса не объясняла, до какого уровня крестьянского потребления способен расти этот баланс и в какой точке соображения прибыли перевешивают принцип минимизации усилий. Очевидно, что урбанизация и техническая модернизация аграрной сферы ставят под угрозу само существование семейного крестьянского хозяйства. Под давлением демографической революции серьезно видоизменяется сельская семья, которую становится все труднее описывать в категориях демографической дифференциации. Не вызывает сомнений только то, что теория трудопотребительского баланса хорошо работает в условиях низкого уровня потребления и высоких трудозатрат. Именно это сделало ее востребованной при характеристике развивающихся экономик.
Во второй половине 1920-х гг. Чаянов стал уделять больше внимания семейному труду, считая теперь именно его, а не потребности семьи, основным фактором экономической деятельности крестьян [ Шанин , 2019, с. 187]. Перспективы развития этого труда связывались с планами кооперации. Именно через кооперацию Чаянов полагал возможным вписать семейное крестьянское хозяйство в народнохозяйственный контекст (см. подробнее [ Денисевич , 1991, с. 23; Крамар , 2018, с. 36; Никулин , 2017, с. 163–164]). Сегодня высказываются мнения, что теория крестьянского хозяйства не была самодостаточной и именно кооперация была конечной целью Чаянова при ее создании (см., напр., [Круглый стол…, 2018, с. 79–80]). Пока было возможно, Чаянов и его единомышленники пытались противостоять сталинской модели коллективизации, вполне отдавая себе отчет в различии мировоззренческих подходов: для экономистов организационно-производственного направления кооперирование крестьянства было способом сохранения крестьянского мира, для сталинского руководства – его разрушения6.
Личные подсобные хозяйства: основные этапы развития
Логика применения теории крестьянского хозяйства к личным подсобным хозяйствам колхозников и рабочих совхозовопределяется утверждением Чаянова, считавшего, что крестьянское хозяйство как организационная форма «вполне мыслимо… в условиях чисто натурального быта, то есть в условиях таких народнохозяйственных систем, в которых совершенно отсутствовали категории наемного труда и заработной платы» [ Чаянов . Организация…, 1989, с. 203].
ЛПХ, в отличие от крестьянских хозяйств периода нэпа, в гораздо большей степени подвергались административному давлению. Политика по отношению к ним была непоследовательной, периоды жестких ограничений сменялись либерализацией. Постоянное внимание власти к ЛПХ определялось тем обстоятельством, что их рассматривали как переходную форму, обреченную на исчезновение. Отсюда настойчивое стремление к ограничению размеров подсобных хозяйств. В этой политике можно выделить несколько этапов:
-
1. Организационный этап – 1935–1939 гг . Выбор артели как желаемой организационной формы для колхозов предполагал наличие у крестьянской семьи земельного участка. По Уставу сельскохозяйственной артели 1935 г. он выделялся колхозному двору под личное хозяйство. Предельно допустимый размер надела определялся от 0,25 до 0,5 га, а в отдельных районах до 1 га [ Денисевич , 1991, с. 28; Мазур , 2012, с. 368]. Предписанные максимальные нормы были в несколько раз меньше, чем прежние размеры землепользования крестьянских семей. На первых порах дополнительно к усадьбе колхозникам могли предоставляться полевые наделы. В результате хозяйство колхозника воспроизводило в урезанном виде структуру традиционного семейного хозяйства [ Мазур , 2012, с. 369].
-
2. Ограничительный этап – 1939–1953 гг. Личные хозяйства рассматривались как дополнительный ресурс повышения эффективности колхозов. В 1939 г. в результате борьбы с «разбазариванием» колхозных земель были ликвидированы полевые наделы колхозников, а все приусадебные земли теперь стали сводить к одному месту; одновременно приусадебные наделы рабочих и служащих, проживающих в сельской местности, ограничивались до 0,15 га [Там же, с. 374]7.
-
3. Либерализация – 1953–1959 гг . Политика этого периода имела целью избавление от наиболее вопиющих репрессивных практик сталинского времени. В сентябре 1953 г. начались налоговые послабления по отношению к жителям села, а в начале 1958 г. был полностью отменен сельхозналог с ЛПХ. После введения в 1956 г. внутриколхозного регулирования размеров приусадебных участков начались многочисленные прирезки приусадебной земли и увеличение поголовья личного скота [ Горбачев и др. , 2017, с. 112], что было воспринято властью как новая проблема. С другой стороны, с улучшением состояния общественного сектора сельскохозяйственного производства в середине 1950-х гг. ЛПХ перестали быть основой для выживания колхозной семьи, хотя и продолжали занимать важное место в семейном бюджете [ Вербицкая , 1992, с.154].
-
4. Ограничительный этап – 1959–1964 гг. Несмотря на то что в личных хозяйствах колхозников, в отличие от общественного сектора, применялся исключительно ручной труд, к 1959 г. в них производилось от половины до 80 % валовой продукции молока, мяса, картофеля, овощей и яиц колхозного сектора [ Зеленин , 2000, с. 81]. Неудобные для власти цифры стали причиной запрета на содержание скота в хозяйствах рабочих и служащих, нового ограничения размеров участков. Последовавший за этими изменениями мощный миграционный отток из села в город продемонстрировал, что возможность приусадебного скотоводства была для сельских жителей своеобразным якорем, удерживавшим их от переезда.
-
5. Либерализация – 1964 – первая половина 1980-х гг . После осознания тяжелых последствий интенсивного миграционного оттока населения из села в город были сняты некоторые ограничения с личных хозяйств, в том числе на содержание скота [ Игнатовский , 1966, с. 383–384]. Терпимость по отношению к ЛПХ в брежневские годы объяснялась тем, что, во-первых , личные подсобные хозяйства по причине своего потребительского характера не считались более угрозой общественному сектору. Во-вторых , молчаливо признавалась неспособность колхозно-совхозной экономики обеспечить население всеми видами сельскохозяйственной продукции. Наконец, в-третьих , продолжался курс на стирание социальных различий между отдельными группами населения. Благодаря личным хозяйствам совокупный доход колхозников был примерно равен доходу работника совхоза. Средний размер ЛПХ в колхозах сложился на уровне 0,31 га, в совхозах – 0,2 га, у рабочих и служащих (вне сельского хозяйства) – 0,11 га [Советское крестьянство…, 1985, с. 90, 92].
Размеры участков работников совхозов не могли превышать 0,25 га на семью. Третьей разновидностью приусадебных хозяйств стали еще меньшие по размеру индивидуальные хозяйства горожан .
С прекращением попыток активного властного давления на приусадебные хозяйства выяснилось, что они по-прежнему являются органичной чертой аскетичного советского быта, причем не только сельского, но и городского. В 1970-е гг. подсобные хозяйства были не только практически у всех колхозников, но и почти у 40 % рабочих и служащих. В 1979 г. личные хозяйства давали 59 % всего произведенного в стране картофеля, 31 % овощей, 53 % плодов и ягод, 30 % мяса, 29 % молока и 33 % яиц [ Мазур , 2003, с. 378]. К концу советского периода идея личного хозяйства как пережитка сменилась их официальным признанием как неотъемлемой черты советского сельского быта [ Bruisch , 2016, p. 88].
ЛПХ в контексте чаяновской теории
Для установления степени соответствия личных подсобных хозяйств колхозно-совхозной эпохи чаяновским представлениям о семейном крестьянском хозяйстве выделим наиболее значимые критерии для сравнения.
К ним относятся размеры и структура хозяйства, демографическая дифференциация, характер труда и степень автономности хозяйства (табл. 1).
Таблица 1
Крестьянское хозяйство и ЛПХ в свете теории А. В. Чаянова
|
Критерии сравнения |
Крестьянские хозяйства |
Личные подсобные хозяйства |
|
Размеры и структура хозяйств |
Многоотраслевое семейное хозяйство с земельным наделом до 14 га, поголовьем рабочего и продуктивного скота. |
Многоотраслевое семейное хозяйство без полевого надела, с приусадебным наделом до 0,5 га и ограниченным поголовьем продуктивного крупного рогатого (1–2) и мелкого рогатого скота (до 10 голов) |
|
Зависимость производственных возможностей от внутренних ресурсов семьи и конъюнктуры рынка |
Высокая |
Низкая |
|
Демографическая дифференциация |
Определяется трудопотребительским балансом (соотношением едоков и работников) |
Определяется отношением лиц, занятых в общественном производстве к числу незанятых (трудоспособных / нетрудоспособных) |
|
Характер труда |
Ручной труд + конная механизация |
Немеханизированный ручной труд |
|
Степень автономности хозяйства |
Самостоятельное |
Включено в колхозно-совхозную систему |
В качестве иллюстрации приведем усредненные данные бюджетных обследований 1920-х и середины 1960-х гг. для сравнения производственных показателей крестьянского хозяйства (табл. 2).
Таблица 2
Хозяйственные показатели крестьянской семьи Среднего Урала по результатам бюджетных обследований 1928/29 и 1963 гг.*
|
Показатель, в среднем на хозяйство |
1913 г. |
1928/1929 гг. |
1963 г. |
|
Земельный надел, га |
13,4 |
13,6 |
0,24 |
|
Площадь посева, га |
6,9 |
4,9 |
0,19 |
|
Лошадей |
2,5 |
2,2 |
0 |
|
Коров |
2,5 |
2,9 |
1,2 |
|
Число человек |
6,1 |
5,5 |
3,7 |
|
Детей до 18 лет |
Нет св. |
2,6 |
1,5 |
|
Работников |
Нет св. |
2,7 |
1,8 |
|
Иждивенцев |
Нет св. |
– |
1,9 |
* Подсчитано Л. Н. Мазур на основе бюджетов крестьянских хозяйств (ГАСО. Ф. 1812. Оп. 12. Д. 39–60; Ф. 1813. Оп. 14. Д. 3578–3585)
Как видим, размеры ЛПХ были значительно меньше крестьянских хозяйств 1920-х гг. Хозяйства различались и по структуре, поскольку ЛПХ лишено полевого надела и рабочего скота; ограничено и поголовье продуктивного скота. В этом контексте ЛПХ можно рассматривать как форму существования семейного производства в условиях малогибкого аграрного режима (см. [ Чаянов . Организация…, 1989, с. 230]). Резкое ограничение площади землепользования предполагалось компенсировать альтернативной занятостью в общественном секторе, но вследствие низкой его доходности работники сельского хозяйства были вынуждены прибегать к крайнему напряжению труда на личных участках либо искать иные источники дохода.
Размер приусадебного участка определялся с учетом местных условий уставом колхоза, но не мог превышать нормы, установленные Земельным кодексом. В пределах этих норм размер участка мог варьироваться. Так, например, была отмечена зависимость между профессиональной занятостью в общественном секторе и размерами ЛПХ. Животноводы и механизаторы имели участки бóльших размеров, чем полеводы. Другим дифференцирующим фактором был характер застройки: в условиях массового строительства многоквартирных домов на селе в 1960-е гг. происходило сокращение площади земельных участков, выделенных под огороды до 0,05–0,10 га [ Калугина , 1991, с. 123].
Размеры ЛПХ в целом и земельного надела в частности также зависели от демографических ресурсов семьи. Для обеспечения своих насущных потребностей семья нередко шла на административные нарушения (главным образом, в форме самозахватов общественных земель) либо легально боролась за свои интересы с правлением колхоза, в ведении которого находились вопросы распределения земли.
По данным обследования 1982 г., средние размеры приусадебных участков в РСФСР прямо соотносились с численностью семьи и варьировались от 0,12 га для семей из 1 чел. до 0,22 га для семей из 7 чел. с пропорциональным изменением количества скота. Исключение составляли семьи из 4 чел., обычно состоявшие из брачной пары с детьми. В таких хозяйствах размер землепользования и количество скота были меньше, чем в семьях из 3 чел. [Там же, с. 122]. Отмеченная зависимость соотносится с чаяновской «нормальной» моделью развития крестьянского хозяйства, учитывающей как размер, так и возраст семьи. Коррективы в эту зависимость при колхозном строе вносил показатель занятости членов семьи в общественном секторе. Поскольку основными работниками на приусадебном участке и в домашнем хозяйстве были женщины, старики и дети, то в семьях с четырьмя неработающими членами размеры хозяйства по поголовью домашнего скота достигали своего максимума [Там же, с. 121].
В целом, в отличие от крестьянского хозяйства периода нэпа, когда прослеживалась тесная зависимость производственных характеристик хозяйства от числа работников в семье, личное подсобное хозяйство регулировалось административно, в первую очередь Уставом сельскохозяйственной артели, ограничивающим производственные характеристики ЛПХ (земельный надел, поголовье продуктивного скота), а также законодательными актами.
В этом смысле ЛПХ представляло собой достаточно статичный организм, рассчитанный на участие в производственном процессе только членов семьи, который функционировал в режиме простого воспроизводства. Объемы производственной деятельности ЛПХ могли меняться, чаще всего в сторону уменьшения (за счет сокращения поголовья скота). Именно это происходило в 1960–1970-е гг.: с уменьшением среднего размера семьи и ее старением снижались объемы производства в приусадебном хозяйстве. Рост эффективности ЛПХ и получение доходов от него были возможны за счет вспомогательных видов деятельности (промыслы, ремесла); в 1960-е гг. – за счет интенсификации огородничества и садоводства; в 1980-е гг. – за счет животноводства, поскольку государство стало стимулировать разведение скота на личных подворьях.
Таким образом, динамика объемов производства и доходов от ЛПХ в первую очередь зависела от политики власти, стимулирующей либо ограничивающей его развитие, и только во вторую очередь – от демографических ресурсов семьи.
Как в крестьянском хозяйстве начала XX в., так и в приусадебном хозяйстве второй половины столетия основная цель производственной деятельности состояла в обеспечении первичных потребностей семьи в продуктах питания, т.е. в выживании, и только затем – в получении дохода (основного или дополнительного). Основной доход колхозники должны были получать от работы в колхозе, но вплоть до 1960-х гг. основным источником доходов (натуральных и денежных) оставалось личное подсобное хозяйство. По этой причине сохранялась заинтересованность колхозников в повышении его эффективности, в том числе за счет интенсификации труда членов семьи (особенно женщин). Использовались и такие способы роста объемов производства, как скрытая аренда, использование труда людей, не являвшихся членами семьи, и др. [ Мазур , 2003, с. 379]. По данным бюджетных обследований 1982 г., ЛПХ было тем более доходным, чем меньшим был душевой доход семьи от общественного хозяйства [ Калугина , 1991, с. 123].
Еще одной чертой, сближающей ЛПХ с семейным крестьянским хозяйством начала XX в., является доминирование в них ручного труда. Вплоть до конца советской эпохи в приусадебных хозяйствах консервировались архаичные производственные практики, предполагавшие крайнее физическое напряжение. Так называемая «малая механизация» развития в СССР не получила: лопата и грабли оставались основными орудиями труда на приусадебном участке. На этом основании можно сделать вывод об искусственной архаизации сельскохозяйственных практик в сравнении с периодом нэпа. Основной причиной этой архаизации были сохранявшиеся представления о мелкобуржуазном характере семейной экономики, которую было необходимо тщательно контролировать.
В целом можно констатировать, что урбанизация села, особенно активная в 1960–1970-е гг., способствовала упрочению статуса семейных хозяйств как вспомогательных, сохраняя при этом дифференцирующую нагрузку демографических факторов в формировании бюджета семьи и объемов производства ЛПХ.
Заключение
Теория крестьянского хозяйства А. В. Чаянова, предназначенная для выявления закономерностей и факторов функционирования трудового семейного хозяйства, позволяет глубже понять двойственный характер личных подсобных хозяйств колхозников и особенности их эволюции. Будучи семейным хозяйством, ЛПХ были встроены в колхозную (совхозную) систему и регулировались не рыночными, а административными механизмами. Кардинально менялась и роль семьи: если в крестьянском хозяйстве семья выступала в качестве объекта воздействия и все ее поведение определялось интересами хозяйственной деятельности, то ЛПХ, напротив, зависело от интересов семьи. В условиях формирования устойчивых источников семейного дохода колхозников от общественного производства роль личных подсобных хозяйств неизбежно падала.
«Чаяновский» взгляд на ЛПХ позволяет увидеть в них не столько пример экономической эффективности, сколько колоссальный потенциал выживаемости при жестко ограниченных возможностях – территориальных, технологических, отраслевых, демографических, требовавших от владельцев приусадебных участков полной самоотдачи и колоссального напряжения сил.
Отдельного упоминания заслуживает вопрос о возможности эволюции ЛПХ по фермерскому типу. В нерыночной советской экономике развитие личного подсобного хозяйства всячески ограничивалось. Вместе с тем в 1930–1950-е гг. продажа сельскохозяйственной продукции на рынке была для колхозников одной из немногих возможностей получения наличных денег (особенно в позднесталинский период). Позже, в 1970-е – начале 1980-х гг., доход от продажи продукции, полученной в рамках семейного производства, часто имел отчетливый рыночный характер.
Такого рода «рыночная» эволюция семейного производства не коснулась огромного количества горожан и жителей пригородов, владельцев пресловутых «шести соток», которые продолжали существовать в логике натурального хозяйства. Как в советских, так и в современных ЛПХ сохраняется первичная ячейка в виде семейного производства, хотя и в усеченном виде (А. В. Гордон) [Круглый стол…, 2018, с. 82]. Эти хозяйства по сей день являются убедительной иллюстрацией того, как в стремлении восполнить недостаток ассортимента розничной торговли или в погоне за экологически чистой продукцией совершенно игнорируются соображения выгоды, либо опасения чрезмерной затраты трудовых усилий. Работа по привычке, из желания следовать традиции, для души заставляет не думать о прибыли и обеспечивает дачным участкам вполне «чаяновскую» устойчивость. Естественно, что расходы на ведение такого хозяйства компенсируются «неземледельческой» занятостью, т.е. доходами, полученными по основному месту работы владельца(-ев) огорода или садового участка. В этом контексте сегодняшние дачные участки в России следует воспринимать не как вариант семейной организации сельскохозяйственного производства, а скорее, как разновидность семейных рекреационных практик.
Список литературы Теория крестьянского хозяйства А. В. Чаянова и личные подсобные хозяйства в советской деревне (вторая половина 1930-х - 1980-е годы)
- Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 1812. Оп. 12. Д. 39-60; Ф. 18.13. Оп. 14. Д. 3578-1585.
- Безнин М.А. Крестьянский двор в Российском Нечерноземье 1950-1965 гг. М.; Вологда: Б. и., 1991. 256 с. EDN: YKBITR
- Вербицкая О.М. Российское крестьянство: От Сталина к Хрущеву. Середина 1940-х - начало 1960-х гг. М.: Мысль, 1992. 224 с. EDN: PYIKQL
- Виноградова И.Н. Учение А. В. Чаянова об организации крестьянского хозяйства: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2003. 32 с. EDN: NHJVSV
- Горбачев О.В., Кометчиков И.В., Филимонов В.Я. История крестьянства Западного региона России: 1941 - середина 1980-х годов / Калуж. гос. ин-т развития образования. Калуга, 2017. 632 с. EDN: YRFKPR