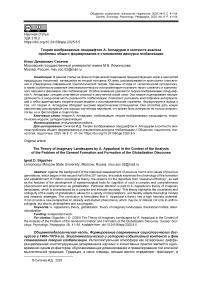Теория воображаемых ландшафтов А. Аппадураи в контексте анализа проблемы общего формирования и становления дискурса глобализации
Автор: Сигачев И.Д.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье на фоне исторической переоценки предшествующих норм и ценностей предыдущих поколений, начавшейся во второй половине XX века, рассматриваются хронология становления и утверждения современной социологической теории, причины отхода от «классической ортодоксии», а также особенности развития эпистемологического инструментария познания такого сложного и комплексного явления и феномена, как глобализация. Особое внимание уделяется теории воображаемых ландшафтов А. Аппадураи, которая отличается сложной и запутанной игрой слов. Эта теория подчеркивает неопределенность и неоднозначность реальности глобализации, позволяет учитывать многообразие интерпретаций и гибко адаптировать теоретические модели и исследовательские стратегии. Формулируется вывод о том, что теория А. Аппадураи обладает высоким эвристическим потенциалом. Она способна дать новую перспективу рассмотрения уже хорошо изученным явлениям, что может быть интересно не только антропологам, но и философам и социологам.
Теория А. Аппадураи, глобализация, теория воображаемых ландшафтов, теоретические модели, детерриториализация
Короткий адрес: https://sciup.org/149149016
IDR: 149149016 | УДК: 316.2 | DOI: 10.24158/spp.2025.8.5
Текст научной статьи Теория воображаемых ландшафтов А. Аппадураи в контексте анализа проблемы общего формирования и становления дискурса глобализации
впоследствии и типизирует стиль и образ специфически устроенной сциентифической рефлексии в конкретную историческую эпоху. Академическая архитектоника неизбежно содержит в себе и разветвленную систему комплексов учебно-методических материалов, и в широком смысле университетскую инфраструктуру вместе с устанавливаемыми и согласованными внутри последней стандартами реализации приоритетных исследовательских направлений, стратегем развития и паттернов аналитических схем, как в высшей степени институционализированное оформление и обрамление подобных организованных механизмов трансляции и генерации знаний. И интеллектуальная атмосфера, и академическая архитектоника в последние десятилетия второй половины ХХ в. были отмечены в предметных полях фактически всех многочисленных и поистине обширных по своей охватываемой тематике и проблематике социально-гуманитарных науках активным поиском теоретико-гносеологических и эвристических конструкций. Эти конструкции, по замыслу их же авторов и создателей, должны были релевантно, на подобающем и надлежащем уровне фундированности объяснить фундаментальные векторы изменений в обществе указанного периода.
Однако ситуация осложнялась существенными обстоятельствами, мешавшими ясно воспринимать происходившие тогда коренные трансформации и решительные перестроения прежних порядков даже по меркам обозначенных выше отраслей специализации. Это связано с тем, что в отличие от, например, естествоведческого профиля изыскательной деятельности, гуманитарные науки более подвержены воздействию разного рода модным интеллектуальным трендам и тенденциям.
Социогуманитарное знание в целом также в значительной степени ориентируется на нахождение и разработку принципиально новых концептуальных рамок и пересмотр, а порой и полную, всеобъемлющую деконструкцию различных вариаций традиционных, классических абстрактно-методологических, эмпирико-количественных, праксеологических и прочих подходов к описанию и экспликации облика окружающей действительности в силу собственной доступности1, некой иллюзорно кажущейся и представляющейся некоторым обывателям демократичности, простоты понятийно-категориального аппарата и неминуемой общепризнанной мультипарадигмальности (Шаров, 2014: 157). Авторам необходимо было обеспечить в своих предлагаемых идеях стройную, когерентную совокупность доводов, соответствующую изучаемому объекту и/или фрагменту продуктов и деривативов, а также связанную с самой сложной и загадочной для понимания материей ‒ человеческим духом (Дильтей, 2000: 611). Кроме того, не менее важно было подчеркнуть надлежащую процедуру инструментальной валидации огромного объема информации.
Задача социологии, в свою очередь, была отягощена тем фактом, что в силу своей исключительной метапредметности и умозрительности она должна была охватывать своей диагностикой всю сумму отношений в социальной реальности и ее основополагающих сферах, включая особенно подверженные, по мнению Дж. Мейера, влиянию глобализационных процессов такие области социума, как политика, экономика, культура, средства массовой коммуникации и международная миграция (Meyer, 2000: 233).
В других же дисциплинах акцент в основном делался на исследовании отдельных аспектов той или иной стороны общественной жизни (например, экономисты сосредотачивались на анализе производства, распределения, обмена и потребления в масштабе мирового хозяйства, деятельности транснациональных корпораций, психологи ‒ на разборе появившихся вследствие все более интенсифицирующей диффузии культуры паттернов поведения, политологи ‒ на динамике режимов в условиях интенсификации контактов между странами и т. д.).
Одной из первых и продуктивных теорий, призванных, по мнению их авторов, дать во многом исчерпывающие, насколько об этом вообще можно упоминать в контексте социальных наук, ответы на зародившиеся вопросы, касающиеся того, как можно изучать модифицированную всесторонними изменениями действительность, безусловно, является концепция воображаемых миров известного американского антрополога и социолога индийского происхождения А. Аппаду-раи. Но перед тем, как приступить к тщательному и детализированному разбору оригинальных и аутентичных идей выдающегося ученого и других столь же авторитетных авторов, разрабатывавших или последовательно внедрявших в общее ментальное пространство термин «социальное воображаемое», следует, на наш взгляд, проследить достаточно пролонгированную по своим темпоральным границам и занятную хронологию становления и утверждения современной социологической теории (См. подробнее: Добреньков, Полякова, 2011), ее самого свежего этапа для того, чтобы раскрыть контекст случившихся событий и вникнуть в причины отхода от «классической ортодоксии» и сложившейся к этому моменту эпистемологии.
В 1960‒1970-е гг. в Северной Америке и передовых странах Западной Европы начались кардинальные социетальные трансформации. Они привели к стремительной переоценке молодежью устоявшихся норм и ценностей предыдущего, родительского поколения, придерживающегося в тот период консервативных взглядов на семью, предпочитаемую гендерно-ролевую модель интеракций, место и функцию религии в повседневной жизни, вмешательство и интервенцию органов исполнительной власти в хозяйство, свободные рыночные отношения; коммунизм как экзистенциальную угрозу существующей тогда стабильности и публичной гармонии (например, маккартизм, вторая «красная угроза») и т. д.
Вместе с тем социальное согласие и относительное благополучие серединных десятилетий ХХ в. происходили на фоне значительного всплеска послевоенной рождаемости, так называемого беби-бума; расцвета государства всеобщего благосостояния (welfare state), включающего в себя увеличение расходов на помощь малоимущим, повышение налогов для наиболее обеспеченных страт населения в целях, как шаблонно и почти буднично декларировалось многими правительствами, «поддержания достойного уровня жизни для всех граждан вне зависимости от возраста и … статуса» (Малахов, 2022: 23).
Что же касается мирового финансового лидера тех времен ‒ США, то здесь наблюдался стремительный рост среднего класса со своей определенной моралью англосаксонских белых протестантов (White Anglo-Saxon Protestants) и особый, основанный на практичной экономичности, предприимчивости, трудолюбии, бережливости, преданности долгу и подавлении пагубных страстей стиль жизни, который изначально был характерен только для представителей данной группы, но в дальнейшем распространился и на всех остальных. Происходило активное становление массовой культуры, шло интенсивное строительство в пригородных зонах, которое вместе с форсированной автомобилизацией способствовало формированию отличительного субурбийного modus vivendi, хорошо знакомого нам по кинематографическим произведениям и иным аудиовизуальным объектам поп-арта. Отмечался потребительский ажиотаж на инновационные и казавшиеся новаторскими и прогрессивными по тем временам бытовые товары и услуги (телевизоры, микроволновые печи, посудомоечные и стиральные машины, различные пластиковые изделия, в частности легендарные садовые украшения в виде фигурок розовых и белых фламинго на идеально выстриженных газонах, развитие супермаркетов как прорывной технологии самообслуживания) и консьюмеризм как феномен, отразивший изменения в понимании и интерпретации символов личностного успеха и благополучия, и даже в некотором роде идеологии средних слоев, пропагандирующей важность перманентного приобретения и потребительства.
«Славное тридцатилетие» во Франции ‒ термин, введенный в научный оборот Ж. Фурастье (Fourastié, 1979); послевоенный консенсус лейбористов и консерваторов, базировавшийся на практической реализации кейнсианства и сохранности социальных гарантий по типу доступа подданных к Национальной службе здравоохранения Великобритании (Addison, 1977; Dutton, 1997); попытка построения проекта «Великого общества», предпринятая тридцать шестым президентом США Л. Джонсоном, имеющая явную социально-реформистскую направленность на урегулирование многочисленных вопросов бедности, стоящих перед нацией, эксклюзии отдельных групп населения и т. д. и закончившаяся частичным решением проблем расового неравенства (Закон о гражданских правах 1964 г. и 1968 г., Закон об избирательных правах 1965 г.), образования (Закон о начальном и среднем образовании 1965 г.), здравоохранения (развертывание программ «Медикейд» и «Медикэр» в 1965 г.) и нищеты (Закон о продовольственных талонах 1964 г.) в США, ‒ все свидетельствовало о стремлении к созданию более справедливого и равноправного социума. И действительно, обозначенный выше период в истории ознаменовался рядом достижений: в целом высоким ростом промышленного производства, минимальным уровнем безработицы и расслоения.
Однако существовала и обратная сторона этого процесса, проявляющаяся в усилении фискального и административного давления на бизнес, национализации и отъеме частной собственности (достаточно вспомнить деятельность правительства К. Эттли в сфере железнодорожного транспорта по созданию единого оператора «British Railways»), возникновении совершенно новых, неклассических видов социального отчуждения, формировании глубоких поколенческих «расколов» между родителями ‒ представителями, как правило, «молчаливой» генерации и детьми, не желающими жить по-старому. Так, в 1962 г. подоходный налог для самых богатых американцев достигал 91 %, хоть и применялся не более чем к 500 поданным декларациям (Splinter, 2020: 1006‒1007).
Естественно, что с течением времени такой экономический порядок вместе с другими факторами (небезызвестное «нефтяное эмбарго» 1973 г.) привел к депрессивной стагфляции 1970-х гг., справиться с которой удалось только благодаря принципу laissez-faire, политике дерегулирования и свободного рынка, наиболее последовательно и удачно проводимым М. Тэтчер и Р. Рейганом.
Тем не менее стоит отметить, что описываемый нами период 1940‒1960-х гг. удивительным образом совпадает с расцветом структурно-функционального анализа. Общая ориентированность общества той эпохи на стабильность, конформизм, достижение согласия или, как в случае с гражданскими правами, сглаживание острых углов и конфликтных противоречий, соответствовала той картине мира, которую выдающиеся социологи Т. Парсонс и Р. Мертон предлагали в качестве своей теоретико-методологической схемы описания реальности.
Если отбросить все сложности, абстрагироваться от полиморфизма интерпретационных стратегий и подняться, как предлагал А. Гоулднер, на уровень «доменных» предпосылок, то окажется, что суть структурного функционализма вполне может заключаться, по словам А. Кампы и М.Н. Хидиятуллиной, в том, что «все части общества (не только люди, а также институты, факты и действия) должны быть взаимосвязаны друг с другом, потому что только в таком режиме оно может выжить» (Кампа, Хидиятуллина, 2015: 225). В этом контексте «социальная склейка» и сама возможность существования социума как такового достигаются только при условии удовлетворения его потребностей, то есть при гармоничном и устойчивом взаимодействии системы и всех ее элементов. В первую очередь подобное интеллектуальное объяснение удовлетворяло разросшиеся к тому времени средние слои, стремившиеся к сохранению своей внешней респектабельности и общественной консистентности. Поэтому неслучайно представители левого крыла американской социологии, например, Ч. Миллс и уже упомянутый выше А. Гоулднер, воспринимали структурный функционализм «не столько как социологическую теорию, сколько как идеологию американского среднего класса» (Полякова, 2012: 25).
Однако уже в середине 1960-х ‒ начале 1970-х гг. происходят значительные коренные сломы этой системы. Можно только лишь перечислить те явления и процессы, которые подготовили эти изменения, стали триггером грядущих модификаций и трансформаций (Полякова, 2006: 5):
-
‒ развернувшаяся телекоммуникационная революция, появление совершенно новых организационных форм и стратегий, фактически ознаменовавших закат идеологии и практики фордизма, конец организованного капитализма;
-
‒ серьезные трансформации в сфере культуры, получившие название постмодернистских; контркультурная критика цивилизации, появление различных субкультур, например, хиппи;
-
‒ новые формы социального конфликта и борьба за гражданские права в США. Во Франции это во многом был еще и протест против структурного функционализма. Так, молодежь, участвующая в майских событиях 1968 г., ставила в укор сторонникам данного теоретико-методологического подхода сведение каждого человека к элементу социальной структуры, просто выполняющему те или иные предзаданные функции, которые необходимы для поддержания стабильности и функционирования общества. Неслучайно один из лозунгов студентов, как отмечает С. Жижек, звучал так: «Структуры не ходят по улицам» (Žižek, 2018: 5). Однако эта социологическая школа была намного сложнее и многограннее, чем ее пытались представить тогда участники «красного» месяца. Достаточно вспомнить комплексную теорию социального действия индивида Т. Парсонса (Parsons, 1949). В ней отчетливо присутствуют такие категории, как мотивы, роли, высоко абстрактные ценностные образцы и представления актора, что уже свидетельствует о выходе выдающегося американского ученого за рамки простого подчинения всего внешним, экстерналь-ным структурам и непритязательного любого рода и свойства детерминистского описания механистических социетальных связей на макроуровне.
Примечательно, что бунтовали именно беби-бумеры, которые, как отмечала Н. Хендрикс, больше, чем любое другое поколение до них, наслаждались нутритивной пищей, хорошим здравоохранением и образованием. Многие дети, появившиеся на свет в 1940‒1950-х гг., выросли в условиях процветания и изобилия, не знали принудительного труда и пользовались привилегиями, когда-то доступными только высшему классу (Hendricks, 2019: 3). Однако есть мнения, активно оспаривающие эту точку зрения (Вайс, 2023). Несмотря на это, нельзя отрицать, что в своей повседневной жизни беби-бумеры редко сталкивались с теми трудностями и невзгодами, которые преодолевали их предки.
Все эти перемены в общественном сознании требовали совершенно нового взгляда на со-циетальные процессы. Разные представления об источниках социальных изменений, социальнокультурных, экономических и политических трансформаций привели к возникновению целого ряда теорий (Налетова, 2016: 13). Тогда же зародилось многообразие терминов и категорий: «постиндустриальное общество», «информационное общество», «конец труда», «конец идеологии», «конец детства», «конец великих нарративов», «постбуржуазное общество», «посткапиталистическое общество». Наука была в отчаянном поиске нового языка дескрипции окружающей социальной действительности. В рамках данного процесса под вопросом были в первую очередь, как отмечает Н.Л. Полякова, «методологические основания социологической науки, фундаментальные представления социологической теории» (Полякова, 2011: 77).
Социология не смогла выполнить свою прогностическую функцию, поэтому в 1970‒1990-х гг. произошло становление четырех автономных дискурсов, которые пытались возродить социологическую теорию и ответить на вызовы, с которыми не справилась классическая социологическая ортодоксия: 1) эндизма; 2) постиндустриализма; 3) постмодерна; 4) глобализации (Полякова, 2009; Она же, 2015). Дискурс глобализации, интересующий нас, возник позже остальных. Это объясняется тем фактом, что его наиболее отчетливые и выраженные проявления, заключающиеся в интеграции и всеускоряющейся взаимозависимости мировых экономик, культурных систем и информационных потоков, стали проявляться в той форме, в которой их стало невозможно игнорировать, лишь в середине 1980-х ‒ начале 1990-х гг. В то время, как, например, о конце труда и трудовой парадигме организации общества как такового заговорили еще в конце 1960-х ‒ начале 1970-х гг. (Полякова, 1990); о повышении роли знания и, соответственно, людей, владеющих им, ‒ различного рода технических специалистов и профессионалов, ‒ в 1970-х гг. (Bell, 1973), крахе универсальных объяснительных схем, свойственных модерну, и шире ‒ метанарративов (Lyotard, 1979), полной утрате связи знака с какой бы то ни было реальностью (Baudrillard, 1981) ‒ в самом конце 1970-х ‒ начале 1980-х гг., а сами 1980-е гг. стали десятилетием доминирования концепта постмодерна в общественных науках (Waters, 2001: 1).
В конце 1980-х ‒ начале 1990-х гг. появились совершенно новые индикаторы, свидетельствующие о новом состоянии общества именно в глобальной перспективе:
-
‒ экономическая интеграция и рост международной торговли. Так, увеличение объемов транснациональной торговли и, как следствие, влияние мультинациональных корпораций, окончательное открытие Китая при Дэн Сяопине, а также стран Юго-Восточной Азии и включение постсоветских стран в мировую хозяйственную систему привели к созданию глобальных производственных цепочек и развитию международных финансовых рынков. Национальные экономики стали все более взаимозависимыми;
-
‒ развитие массовых средств коммуникации, интернета и информационных технологий, которое значительно ускорило обмен информацией, идеями и культурными ценностями на международном уровне, в результате чего, как отмечает М. Кастельс, произошло «беспрецедентное сочетание гибкости и качества выполнения задач, скоординированного принятия решений и их децентрализованного выполнения» (Кастельс, 2004: 14);
-
‒ беспрецедентная массовая миграция населения, расширение туристической индустрии, которые способствовали формированию глобальных культурных связей и идентичностей;
-
‒ расширение власти, влияния и авторитета различных надгосударственных структур по типу ООН, ВТО и МВФ, а также международных некоммерческих организаций. Они объединили людей по всему миру для решения интересующих их проблем или задач.
Таким образом, следует согласиться с мнением Н.Л. Поляковой, которая отмечает, что «фундаментальная новизна происходящих процессов и их очевидный разрыв с предшествующим социальным качеством были столь очевидны, что это мгновенно было зафиксировано теоретической рефлексией и проявилось в оформлении целого ряда социально-теоретических дискурсов, направленных на концептуализацию новых качеств, свойств и процессов, характеризующих общества конца ХХ ‒ начала XXI в.» (Полякова, 2009: 128), а «основу этого пересмотра составил объективный процесс глобализации, который к концу ХХ в. приобрел столь очевидный и оформленный характер, что фактически стал восприниматься как существо современности, главное направление ее трансформации и отличительная характеристика» (Полякова, 2015: 37).
Эти данные соответствуют устоявшемуся и во многом конвенционально и консенсуально принятому в академической среде и публичной сфере мнению, что концепт глобализации начал имплементироваться в социологическую теорию в конце 1980-х гг. Первые детально проработанные теоретические модели глобализации были созданы на рубеже 1980–1990-х гг. (Иванов, 2007: 53). В 1990-е гг. исследования по этой теме стремительно развивались, охватывая самые разные аспекты глобализации1.
Примечательно, что это совпало с тем периодом, когда А. Аппадураи впервые услышал данный термин. В интервью, опубликованном в 2014 г., он отметил, что впервые узнал о таком понятии «в самом конце 1980-х, скорее всего, где-то между 1989 и 1991 годами» (Appadurai, 2014: 481). Интересно и то, что источником информации для него стали не научные круги, а пресса. Мотивом к изучению глобальных процессов, по признанию А. Аппадураи, стали два ключевых фактора. Первый был обусловлен сообщениями средств массовой информации о глобальном открытии рынков после падения Берлинской стены и окончания холодной войны. Второй базировался на том, что основное внимание в освещении процессов глобализации уделялось преимущественно политической и экономической динамике, при этом культурные последствия интенсивной интеграции и интернационализации оказывались в определенной степени на периферии анализа. Таким образом, задача А. Аппадураи состояла в попытке ослабить доминирующее в академическом мире экономическое прочтение категории «глобализация». По его собственному признанию, ему было ближе изучение колоссального воздействия этого социального явления на культурную диффузию и гибридизацию, а также на общественную обеспокоенность по поводу культурной гомогенизации всех стран по примеру США.
Сегодня же актуальность глобализации и ее последствий не только не снизилась, но и существенно возросла. Идет активное приращение и уточнение теоретических и практических знаний, касающихся глобализации. По мнению академика А.Н. Чумакова, «объективный характер глобализации в научном сообществе перестал быть предметом острых дискуссий и уже мало кем оспаривается» (Цит. по: Узнародов, 2021: 129). Как отмечает М. Уотерс, за исключением некоторых «аналитиков цивилизации», большинство социологов, похоже, все-таки признают, что такой процесс идет (Waters, 2001: 1).
Но даже если предположить, что сейчас начались некоторые процессы, свидетельствующие о деглобализации (например, тарифное противостояние Д. Трампа), то все равно концептуальная рамка определения современности отталкивается от самой глобализации, пусть даже и через отрицание последней. Многочисленные проявления глобализации потребовали создания, а позднее и имплементации нового языка описания все более усложняющейся действительности в научноакадемический дискурс. Обойти эту тему было фактически невозможно, был наработан очень насыщенный понятийно-категориальный аппарат, от которого трудно отказаться. Концепт глобализации стал неотъемлемой и практически незаменимой частью современной эпистемы, по сути, тем фреймом, который надежно вошел и в научную, и в публицистическую литературу, более того, он структурирует современное восприятие процессов как ученого сословия, так и всех остальных людей. Поэтому нам остается только согласиться с мнением, что «вне контекста глобализации в социологии нельзя рассматривать ни одно социальное явление» (Осипова, 2014: 124).
На наш взгляд, важно вернуться к ранним теориям глобализации, проследить их эволюцию и оценить их актуальность в современном контексте. В таком «первичном бульоне» инициальных идей, где мыслительные традиции еще не оформились на должном уровне абстракции, генерализации и обобщения, они блуждают, вспыхивают и снова исчезают. Но иногда они озаряют ясностью, как это произошло с идеей ученого, которую мы будем рассматривать далее.
Одной из первых попыток выстроить полноценную теорию глобализации стала оригинальная концепция воображаемых ландшафтов А. Аппадураи. Для осознания всего потенциала этой концепции нам необходимо провести углубленный и систематический анализ, включающий в себя как рассмотрение ее концептуальных основ, ключевых структурных элементов, системы терминов, теоретико-методологических принципов, так и выявление актуальности, применимости в современном научно-академическом дискурсе, поскольку существует множество исследований и теоретических построений, наслоений, опирающихся именно на данные понятия, категории и предложенную А. Аппадураи методологию. Таким образом, необходимо очень внимательно рассмотреть рецепцию его идей в современной социологической теории для понимания их эвристических перспектив. При этом, конечно же, анализ будет неполным без исследования теоретических истоков, которые предваряли его концепции. А. Аппадураи опирался на предшествующие концепции социального воображаемого, в особенности на работу Б. Андерсона «Воображаемые сообщества», изданную в 1983 г., которую он активно цитирует и упоминает.
Теоретические истоки. Теория воображаемых сообществ Б. Андерсона . Не вдаваясь глубоко в эту теорию, обозначим ключевые положения для раскрытия теоретических истоков воззрений А. Аппадураи и понимания предшествующих идей о воображаемом, вписанном не в индивидуальные, а в коллективные представления.
Итак, теория воображаемых наций Б. Андерсона представляет собой концептуальную рамку, в которой национальные сообщества рассматриваются как социальные конструкции, существующие преимущественно в сфере коллективного воображения. В этом контексте нация предстает как «воображаемое сообщество», поскольку ее члены, несмотря на физическую разобщенность и невозможность личного знакомства со всеми другими членами, воспринимают себя как часть единого целого, что создает ощущение общности и принадлежности. Такой феномен обусловлен развитием печатных медиа, которые сыграли ключевую роль в распространении образов, мифов и нарративов, формирующих единое культурное пространство. Поэтому Б. Андерсон отмечает, что нации созданы «печатным капитализмом» (Anderson, 2006: 61, 207), так как в эпоху печатной революции возникла возможность стандартизации языка и распространения коллективных историй, что способствовало формированию общего нарратива о национальной истории и культуре.
Эти образы и символы, создаваемые через коллективное воображение, служат основанием для формирования национальной идентичности и закрепления чувства принадлежности. Они поддерживаются государственными институтами, средствами массовой информации и культурными практиками, что позволяет им приобретать устойчивость и преемственность во времени. При этом Б. Андерсон подчеркивает, что национальные сообщества обладают «исторической природой», поскольку они возникают в конкретных исторических условиях и связаны с определенными социальными процессами; границы таких сообществ являются гибкими и могут изменяться под воздействием различных факторов (Anderson, 2006).
-
А. Аппадураи, по сути, напрямую заимствует у Б. Андерсона его основную идею о том, что коллективные идентичности формируются и конструируются через процессы коллективного воображения и символические практики индивидов, а не являются чем-то данным вроде природного явления: «Таким образом, эти ландшафты являются строительными блоками того, что (продолжая
Бенедикта Андерсона) я бы назвал воображаемыми мирами, то есть множественными мирами, которые образованы исторически обусловленными фантазиями людей и групп, разбросанных по всему миру» (Appadurai, 1996: 33).
Соотношение дихотомии и бинарной оппозиции «глобальное - локальное» в социолого-антропологической теории глобализации А. Аппадураи. Концепты детерриториа-лизации и вернакуляризации . Одним из ключевых вопросов практически в любой теории глобализации является проблема соотношения дихотомии «глобальное ‒ локальное», которая отражает сложное взаимодействие между универсализирующими тенденциями глобализации и уникальными особенностями конкретных сообществ, культур и регионов, подстраивающихся, как правило, под этот большой тренд, а потому теряющих свою местную идентичность. Однако такая позиция может показаться верной только лишь на первый взгляд, поскольку, как показал основатель академического дискурса глобализации Р. Робертсон, процесс глобализации не обязательно элиминирует местные культуры, а даже наоборот, обогащает их, порождая совершенно новые культурные формы и стимулируя эволюцию. «Местное» и «общечеловеческое» переплетаются, и не обязательно, что второе полностью ассимилирует первое. Например, «глобальные тренды могут быть адаптированы и изменены с учетом местных традиций и норм» (Сигачев, 2024: 173).
Р. Робертсон выводит формулу, что глобализация предполагает «универсализацию партикуляризма, а не только партикуляризацию универсализма» (Robertson, 1987: 21 ). А. Аппадураи в целом продолжает логику своего более старшего коллеги и считает, что «центральная проблема глобальных взаимодействий современности – это борьба двух тенденций: культурной однородности и культурной разнородности» (Цит. по: Демир, 2015: 113). Он критикует упрощенное понимание глобализации как культурной унификации и отмечает, что чаще всего аргумент «гомогенизации» разветвляется либо на разговоры о коммерциализации, либо об американизации, и очень часто они оба связаны. Однако эти доводы не учитывают того, что, по крайней мере, с той же скоростью, с какой силой из различных метрополий и гегемонов культурные элементы проникают в новые общества, они, как правило, становятся индигенезированными (Appadurai, 1990: 295). Данный процесс касается и музыки, и стиля жизни, и науки, и правотворчества. Элементы глобальных культурных потоков не просто навязываются локальным сообществам, а подвергаются сложной трансформации, переработке и переосмыслению в контексте местных традиций и практик. Привнесенное что-то извне без поддержки со стороны социальной общности неизбежно будет либо отторгнуто, либо изменено до неузнаваемости.
Как отмечает В.В. Анохина, «анализируя последствия глобализации, А. Аппадураи указывает на дистанцирование социальных отношений от конкретных локусов физического пространства» (Анохина, 2024: 6). Процесс глокализации у него раскрывается, эксплицируется через де-территориализацию социально-культурной реальности. Вследствие подобного отрыва формируется «глобальный культурный поток, который дифференцируется не по ценностной матрице традиций, а согласно динамике глобализации» (Анохина, 2024: 6).
«Локальное» у него действительно теряет привязанность к месту, но это не означает, что оно исчезает. Оно продолжает существовать в других формах, в пространстве различных «ландшафтов» и «измерений», о которых речь пойдет ниже. Таким образом, как отмечает О.И. Макарова, «мы видим, что локальное больше не определяется через простую апелляцию к территории» (Макарова, 2011: 62). Этот факт вынуждает представителей социально-гуманитарных наук коренным образом осуществить пересмотр эпистемологического фундамента, на котором базировались предыдущие социологические ортодоксии, и приступить к созданию новых теоретико-методологических подходов. А. Аппадураи предлагает оригинальную диалектику глобального и локального, где эта бинарная оппозиция была заменена на пару «территориальное ‒ детерриториализированное» (Иванов, 2007: 56). Следовательно, А. Аппадураи развенчивает концепции и теории, предполагающие существование каких-то единых культур в фиксированных местах (Heyman, Campbell, 2009: 132).
Поэтому важнейшим концептом в его теории становится «детерриториализация». По мнению А. Аппадураи, детерриториализация «является одной из центральных сил современного мира, поскольку она переносит трудящееся население в низшие слои и пространства относительно богатых обществ, одновременно создавая преувеличенные и усиленные чувства критики или привязанности к политике в родном государстве» (Appadurai, 1996: 37‒38). Этот термин применим не только к очевидным примерам, таким как транснациональные корпорации и финансовые рынки, но и к этническим группам, религиозным движениям и политическим образованиям, которые все чаще действуют, выходя за рамки конкретных территориальных границ и идентичностей. При этом стоит учитывать, что не всякая детерриториализация глобальна по своему масштабу, и не все воображаемые жизни охватывают обширные международные панорамы (Appadurai, 1996: 61). Отсюда не удивительна и критика А. Аппадураи мир-системного анализа, ибо такой сложный, перекрывающийся, дизъюнктивный порядок больше не может быть понят в терминах существующих центр-периферийных моделей, поскольку последняя подразумевает жесткую привязку к той или иной локации.
-
А. Аппадураи также имплементирует в свою теорию такую важную категорию, как «вернаку-ляризация», или «народиизация», которая подразумевает процесс адаптации и инкорпорации глобальных культурных элементов, идей и практик в локальные контексты с учетом специфических особенностей той или иной общности. Этот механизм позволяет локальным сообществам не просто воспринимать внешние влияния пассивно, но и активно трансформировать их под себя, свои нужды и т. д.
Разобрав этот вопрос, теперь обратимся к тому главному, что позволило А. Аппадураи громко заявить о себе в научно-академическом сообществе и закрепить за собой статус одного из ведущих исследователей в области процесса глобализации, ‒ выделению и успешной концептуализации пяти базовых «ландшафтов» или «пространств».
Концепция пяти измерений глобальных культурных потоков А. Аппадураи . Прежде чем перейти к теории пяти воображаемых ландшафтов А. Аппадураи, необходимо, на наш взгляд, сначала разобраться в нюансах перевода с английского языка на русский и сделать несколько предварительных замечаний.
Итак, А. Аппадураи использует слово «landscape», что, как отмечает В.Д. Иванов, в прямом значении может переводиться как «ландшафт», «пространство». Но при этом данный термин может восприниматься и как «land-scape», что будет подразумевать уже «ускользание пространства» или «бегство от пространства». На этой сложной и запутанной игре слов и коннотациях строится практически весь понятийно-категориальный аппарат А. Аппадураи (Иванов, 2007: 59). Сам же ученый не отрицает этого, а даже, наоборот, подчеркивает необходимость использования специально «размытой» номенклатуры, которая показывает неопределенность и неоднозначность реальности глобализации, позволяет учитывать многообразие интерпретаций и гибко адаптировать теоретические модели и исследовательские стратегии в глубину: «Суффикс “scape” позволяет нам указать на текучие, нерегулярные формы этих ландшафтов; формы, которые характеризуют международный капитал так же глубоко, как и международные стили одежды» (Appadurai, 1996: 33).
Таким образом, термины с общей морфемой «scape» показывают нам отчасти то, что это не объективно заданные отношения, которые выглядят одинаково с любой точки зрения, а, скорее, глубоко перспективные конструкции, сформированные, по мнению А. Аппадураи, историческим, лингвистическим и политическим положением различных акторов (Appadurai, 1996: 33):
‒ национальных государств;
-
‒ транснациональных (мультинациональных) корпораций;
-
‒ диаспоральных сообществ;
-
‒ субнациональных групп и движений (будь они религиозными, политическими или экономическими);
-
‒ и даже таких тесных групп, как деревни, районы и семьи.
В качестве элементарной аналитической схемы любого исследования А. Аппадураи предлагает рассматривать взаимосвязь между пятью измерениями глобальных культурных потоков, которые он обозначает как:
-
1. Этнопространства (этноландшафты).
-
2. Медиапространства (медиаландшафты).
-
3. Технопространства (техноландшафты).
-
4. Финансовые пространства (финансовые ландшафты).
-
5. Пространства идей (идеоландшафты).
Рассмотрим каждый из выделенных «ландшафтов», или же «пространств», и дадим им краткую характеристику.
Этноландшафты (этнопространства) ‒ постоянно меняющийся «ландшафт людей, составляющих меняющийся мир, в котором мы живем: туристов, иммигрантов, беженцев, изгнанников, гастарбайтеров и других перемещающихся групп и людей» (Appadurai, 1996: 33). Все они стали существенной чертой современного мира и влияют как на политику внутри государств, так и на международные отношения сильнее, чем когда-либо. По существу, международная миграция стала фактом, который уже практически невозможно игнорировать тем государствам, которые включены в перманентный процесс обмена населением. Реальность и мечты о переезде теперь действуют в более широких масштабах: «мужчины и женщины из индийских деревень думают не только о переезде в Пуну или Мадрас, но и о переезде в Дубай и Хьюстон, а беженцы из Шри-Ланки оказываются в Южной Индии, а также в Швейцарии, точно так же, как хмонги переезжают в Лондон и Филадельфию» (Appadurai, 1996: 34). Этноландшафты наиболее тесно связаны с идеей транснациональных потоков и детерриториализацией культуры, где идентичности и культурные практики уже строго не ограничены географией или национальными границами. В своей работе «Страх перед малыми числами: эссе о географии гнева» А. Аппадураи предупреждает о возможных проблемах этого процесса и утверждает, что глобализация, несмотря на кажущуюся гомогенизацию, может усугубить тревогу по поводу культурных различий, приводя к «страху перед малым числом», когда доминирующие группы начинают плохо относится к мигрантам и этническим меньшинствам, которые, по их мнению, угрожают их идентичности (Appadurai, 2006).
Медиаландшафты (медиапространства) относятся как «к распределению электронных возможностей производства и распространения информации (газеты, журналы, телеканалы и киностудии), которые теперь доступны все большему числу частных и общественных интересов по всему миру, так и к образам мира, создаваемым этими медиа» (Appadurai, 1996: 35). Данные образы охватывают множество сложных интонационных нюансов, которые зависят от их формата, используемого оборудования, технического оснащения, аудитории и ее характеристик, а также, что немаловажно, от интересов и целей тех, кто владеет различными средствами массовой информации и коммуникации и, соответственно, осуществляет над ними контроль. Поэтому то, как крупные события конструируются в публичном дискурсе, продолжает оставаться актуальной темой в различных дисциплинах, включая социологию и антропологию. Однако наиболее существенным аспектом этих медиапространств является их способность предоставлять зрителям по всему миру богатый и многослойный репертуар тропов, сюжетов и этноландшафтов, в котором тесно переплетаются мир товаров, новости и политика (Appadurai, 1996: 35).
Также в контексте анализа медиапространства А. Аппадураи ставит вопрос об исключительной его значимости для формирования коллективных представлений и группового воображения. Это воображение развивается на индивидуальном уровне, но коллективное воображение группы людей, которые начинают чувствовать и представлять вещи совместно, играет решающую роль, по мнению А. Аппадураи. По мере того, как группы делятся коллективным воображением, они создают новые социальные реальности (Powell, Steel, 2011: 76‒77). Медиаландшафты в этом случае определяют, из каких «ментальных кирпичиков», образов будет состоять картина мира людей. На основе этой картины индивиды будут строить свою социальную деятельность (вспомним теорему Томаса) и модель интеракции с другими. В этом суть подхода А. Аппадураи: человек сам конструирует всевозможные миры. Ученый просто должен эвристически разграничить их в гносеологических целях для удобства познания.
Под техноландшафтом (технопространством) А. Аппадураи подразумевает «глобальную, всегда изменчивую конфигурацию технологий и тот факт, что технологии, как высокие, так и низкие, как механические, так и информационные, теперь стремительно перемещаются через различные ранее непроницаемые границы» (Appadurai, 1996: 34). Он сосредотачивается на том, что теперь практически в каждой стране присутствуют транснациональные корпорации, которые могут разбивать свой производственный процесс на отдельные этапы, привязывать последние к конкретным странам и составлять сложные цепочки поставок. Таким образом, А. Аппадураи заключает, что подобное необычное распределение технологий и, следовательно, особенности этих техноландшафтов все чаще определяются не какой-либо очевидной экономией масштаба, политическим контролем или рыночной рациональностью, а все более сложными отношениями между денежными потоками, политическими возможностями и доступностью как неквалифицированной, так и высококвалифицированной рабочей силы (Appadurai, 1996: 34). Прорывной технологией, кардинально изменившей обозначенное выше пространство, безусловно, стала «всемирная паутина», которая как никогда раньше облегчила поиск источников знаний, обеспечила актуальный доступ к новейшим исследованиям и глобальную связь посредством электронной почты, блогов и возможностей обработки большого объема данных (Powell, Steel, 2011: 78).
Финансовые пространства (финансовые ландшафты) предполагают «интенсивное движение глобального капитала на валютных рынках, фондовых биржах и т. п., связывающее экономики различных стран и регионов в единый мирохозяйственный комплекс» (Тормошева, 2012: 35). А. Аппа-дураи пишет о растущей значимости данного ландшафта, поскольку распределение мирового капитала сейчас представляет собой более загадочный, стремительный и сложный для отслеживания ландшафт, чем когда-либо прежде, поскольку валютные рынки, национальные фондовые биржи и товарные спекуляции перемещают огромное количество денег через национальные системы с невероятной скоростью (Appadurai, 1996: 34). А. Аппадураи видит в финансовом ландшафте наибольшую угрозу, поскольку описывает его как «империализм глобальных финансовых потоков» (Powell, Steel, 2011: 77), при котором такое неконтролируемое и быстрое движение капитала может дестабилизировать национальные экономики. Поскольку происходит значительное расширение финансовых пространств, в том числе благодаря дерегулированию и упрощению перемещения огромных сумм денег по всему миру, то без вмешательства со стороны национальных правительств растет риск отмывания преступными организациями «грязных» денег. Идея детер-риториализации также применена к деньгам, поскольку управляющие финансами ищут лучшие рынки для своих инвестиций, независимо от национальных границ (Appadurai, 1996: 49).
Идеоландшафты, или пространства идей, по мнению А. Аппадураи, также представляют собой «конкатенации образов, но они часто имеют непосредственное политическое значение и часто связаны с идеологиями государств и контридеологиями движений» (Appadurai, 1996: 36). Идеоландшафты состоят преимущественно из элементов мировоззрения эпохи Просвещения и включают в себя такие категории, как «свобода», «права», «суверенитет», «благосостояние», «представительство» и ключевую ‒ «демократия».
А. Аппадураи утверждает, что между пятью ландшафтами (пространствами) иногда возникает разрыв, однако во многих случаях они синергетически взаимодействуют друг с другом, совместно формируя достаточно сложную динамическую систему и поддерживая хрупкий баланс. Например, этноландшафт, продуцируемый мигрантами, оказывает сам по себе определенное влияние на идеоландшафт, выражающееся в трансляции тех или иных социокультурных установок и ценностей (Bohara, Paneru, 2023: 66). Так, приезжие могут отправлять денежные переводы на родину, продавать или покупать технологии по всему миру, тем самым осуществляя диффузию культур в таких масштабах, которые до наступления эпохи глобализации были невозможны.
В целом же значение этих концептов для А. Аппадураи определил С. Дьюринг, который отметил следующее: «Я бы предположил, что для Аппадураи этот мир ландшафтов содержит гораздо больше возможностей, чем старый мир колоний и центров, а также наций, прочно увязанных с государствами» (Цит. по: Richardson, 2019: 821).
Рецепция идей А. Аппадураи в последующих теоретических построениях и эмпирических исследованиях: краткий обзор . Концепция воображаемых миров А. Аппадураи представляет собой достаточно мощный аналитический инструмент, позволяющий систематизировать и интерпретировать широкий спектр культурных, социальных и политических явлений, а также их взаимосвязи в рамках сложных динамических и глобализационных процессов. Сугубо гносеологический акт разделения всех мировых потоков на пять воображаемых ландшафтов, или пространств, помогает нам категоризировать феномены по их принадлежности к тем или иным ментальным картам.
Применение теорий и идей А. Аппадураи достаточно широко и в свою основную область включает:
-
1. Постколониальные исследования. Здесь открывается перспектива того, как народы, находившиеся под властью тех или иных более могущественных политий прошлого, осмысляют, перерабатывают свое колониальное прошлое, как это соотносится с глобальными трендами и влияет на локальные нормы, традиции и ценности. В этом плане примечательна работа «Worship and conflict under colonial rule: a South Indian case» (Appadurai, 2007).
-
2. Исследования массмедиа и СМИ. Теория воображаемых ландшафтов может применяться для анализа того, как медиарепрезентации формируют коллективные образы мира, создают те или иные пространства смыслов и воздействуют на восприятие реальности как больших масс, так и отдельных индивидов. Здесь возможна как качественная, так и количественная методология, например, измерение аудитории телевидения и т. д.
-
3. Критические исследования. Они позволяют осуществить деконструкцию доминирующих дискурсов и социальных институтов, которым не находится места в теории А. Аппадураи, поскольку акцент делается на ускользающие, не закрепленные в пространстве глобальные потоки. Концепция американского социолога и антрополога позволяет критически взглянуть на сложившиеся формы социальной ассоциации.
-
4. Исследования национализма. Теория А. Аппадураи позволяет объяснить возникающее напряжение между различными группами, особенно в контексте международных миграционных процессов. Глобализация усиливает страх превращения большинства в меньшинство и наоборот. Таким образом, коллективные групповые идентичности всегда находятся под угрозой из-за быстрой глобальной миграции через национальные границы. В условиях происходящего сейчас в мире «правого» поворота концепция А. Аппадураи становится особенно актуальной.
Итак, определив теоретические перспективы направления исследования, перейдем к эмпирической экспликации возможностей обозначенной выше концепции.
Одно из возможных применений идей А. Аппадураи ‒ их использование для анализа художественных произведений. Так, турецкий автор Элиф Гювенди Ялчин использует теорию А. Аппа-дураи для разбора и оценки социальной ситуации и реальности в романе известного пакистанского писателя и эссеиста М. Хамида «Exit West» («Выход на Запад»). Этот роман привлек большое внимание благодаря актуальному исследованию миграции, идентичности и последствий продолжающихся войн. В нем подчеркивается, что беженцы формируются как «творение государства двадцатого века» (Цит. по: Yalçın, 2024: 384). По словам турецкого социолога, точка зрения А. Аппадураи оказывается бесценной, поскольку она связывает опыт персонажей с более широкими глобальными моделями, предполагая, что миграция ‒ это не просто перемещение из одного места в другое, а погружение в меняющиеся ландшафты, находящиеся под влиянием технологий, финансов и общего культурного воображения. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на индивидуальных трудностях через призму работ А. Аппадураи, можно показать, как в романе «Выход на Запад» миграция рассматривается в качестве определяющей черты современности, где идентичность и принадлежность формируются как локальными, так и транснациональными силами. Таким образом, использование подхода кажется не только уместным, но и необходимым для раскрытия всех аспектов работы М. Хамида, освещающей сложные реалии миграции в мире, который становится все более взаимосвязанным и изменчивым (Yalçın, 2024: 384‒385).
Еще одним примером недавнего исследования, проведенного в рамках теории и методологии А. Аппадураи, является изучение разрывов и потоков в глобальных «скейпах» в восприятии индийских студентов-медиков, обучающихся в Китае (Wu et al., 2024: 6). Было проведено интервью с индийской молодежью и китайским персоналом для выяснения их мотивации. В контексте концепции «воображаемых миров» и «пяти пейзажей» А. Аппадураи мотивы, выраженные как индийскими студентами, так и китайскими сотрудниками, отражают их взаимодействие с перекрывающимися глобальными и местными влияниями или пейзажами. Эти воображаемые миры формируются их стремлениями и целями под влиянием индивидуального и коллективного опыта. Как отмечается в результатах, «для индийских студентов их воображаемый мир включает в себя личное улучшение, обусловленное семейными обязательствами и поддержкой» (Wu et al., 2024: 6). По мнению китайских авторов, это отражает этноландшафты (этнопространства) А. Ап-падураи (движение людей) и идеопространства (идеоландшафты) (поток идей, таких как долг и поддержка семьи), где они балансируют между своими культурными ценностями и глобальными возможностями. Их стремление «облегчить» или улучшить свое положение формируется чувством принадлежности как к их семейным структурам, так и к более широкой глобальной образовательной сфере: «Индийские студенты стремятся улучшить финансовое положение своих семей, выбирая образование как путь к экономическим возможностям. Они получают доступ к важной информации через различные медиаплатформы ‒ техноландшафты (технопространства), которые помогают им ориентироваться в глобальных возможностях и карьерных путях» (Wu et al., 2024: 6). Далее приводятся основные нарративы и выдержки из интервью. Эта работа является хорошим примером качественного исследования на базе идей А. Аппадураи.
Также стоит отметить, что теория воображаемых ландшафтов А. Аппадураи обладает не только исследовательским, но и образовательным потенциалом. Т. Ричардсон предлагает использовать эту модель в различных контекстах. Теория А. Аппадураи учитывает текучесть постмодернистских пространств и их изменчивые взаимоотношения, будь то постоянно меняющийся ландшафт моды, продвижение через социальные сети или миграция людей для работы в модной индустрии (Richardson, 2019). Это позволяет включить в лекции по социологии и теории моды ряд смежных тем. Например, дизайн, связанный с идеопространством (идеоландшафтом); производство ‒ с финансовым пространством (ландшафтом); труд ‒ с этноландшафтом (этнопространством); дистрибуция ‒ с этнопространством (этноландшафтом) и технопространством (техноландшафтом) одновременно; медиа ‒ с медиаландшафтом (медиапространством), а технологии ‒ с технопространством (техноландшафтом). Все эти темы можно связать с соответствующими «скейпами», что позволит студентам взглянуть на моду через социологическую и культурологическую призму при изучении курсов, касающихся фэшн-индустрии для гуманитариев.
-
А. Аппадураи внес важный вклад в теорию глобализации. До него глобализация как явление рассматривалась учеными как процесс сжатия мира, который объединяет людей в глобальную деревню. Однако А. Аппадураи в своей концепции бросает вызов этой точке зрения. Он утверждает, что глобализация в первую очередь дизъюнкциональна, скалярна и контекстуальна. Это было новаторским интеллектуальным решением того времени (1990 г.).
При этом стоит отметить, что теоретизация А. Аппадураи позже подверглась критике за то, что она представила слишком оптимистичный взгляд на глобализацию, игнорирующий ее негативные аспекты. В своей более поздней и уже упоминавшейся выше работе «Страх перед малыми числами: эссе о географии гнева» он исправляет этот недочет, но достаточно поздно, лишь спустя 15 лет. Если его труд 1990 г. фокусируется на глобальном единстве, то книга 2006 г. ‒ на местном политическом и этническом разделении (Gregory, 2014: 48).
Таким образом, рассмотрев теорию воображаемых ландшафтов А. Аппадураи, нельзя не согласиться с тем, что она определенно успешно прошла испытание временем. Термины и категории, впервые введенные и популяризированные А. Аппадураи, прочно вошли в академический дискурс и уже имеют вполне устоявшийся, не вызывающий вопросов статус в научной среде. Однако их использование не обходится без критики. Эти понятия активно применяются в новых исследованиях, что привело к созданию еще одной концептуальной рамки и аналитической схемы для последующих поколений ученых. Это, несомненно, существенный положительный фактор для развития эпистемологического инструментария познания такого сложного и комплексного явления и феномена, как глобализация. Многочисленные примеры научных трудов ‒ от анализа художественных текстов до вполне стандартизированных и количественных исследований, ‒ в которых ученые, дополняя и видоизменяя подход А. Аппадураи, тем не менее обращались к предложенному именно им понятийно-категориальному аппарату и соответствующей методологии, доказывают, что концепция имеет неплохие перспективы, связанные с дальнейшим развитием, и высокий потенциал применимости. При этом не стоит забывать, что тот интеллектуальный продукт, который мы рассматриваем, является закономерным результатом развития современной социологической и гуманитарной мысли, характеризующейся активным поиском новых идей, концептов и попыткой создать оригинальные теоретические модели, способные релевантно описать изменившуюся реальность, чему и была посвящена первая часть данной статьи.
Теория А. Аппадураи обладает высоким эвристическим потенциалом и может дать новую перспективу рассмотрения даже хорошо изученным явлениям. Она полезна не только антропологам, но и философам и социологам. Самое главное, что концепция А. Аппадураи смогла остаться заметной среди огромного количества теорий глобализации, многие из которых уже забыты.