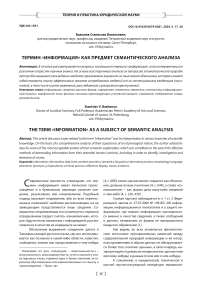Термин "информация" как предмет семантического анализа
Автор: Бажанов С.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 5 (80), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся термина «информация» и его интерпретаций в различных отраслях научных знаний. На основе всестороннего анализа их (вопросов) этимологической природы автор обосновывает свое видение наиболее приемлемого варианта их смыслового объяснения, которое сможет содействовать поиску эффективных приемов истребования сведений от их потенциальных владельцев (носителей), в том числе в целях выявления, расследования и раскрытия преступлений.
Информация, сведения, данные, форма, содержание, семиотика, семантика, лингвистика, информационный процесс, морфология, язык, фонема, синоним, юриспруденция, уголовный процесс, отражение, отображение, следы, доказательства
Короткий адрес: https://sciup.org/14132221
IDR: 14132221 | УДК: 343.139.1 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_5_17_20
Текст научной статьи Термин "информация" как предмет семантического анализа
С овременные лингвисты утверждают, что термин «информация» имеет латинское происхождение и в буквальном переводе означает сведение, разъяснение или ознакомление. Подобный подход вызывает недоумение, ибо из всех перечисленных полисемий1 наиболее располагающим, но не замещающим представляются лишь сведения . Совершенно неприемлемым его (упомянутого термина) определением следует считать «ознакомление», которое, будучи тесно связанным с информацией, рассматриваться в качестве ее инварианта не может.
Объяснение выражения «сведения» дается в Толковом словаре русского языка, где оно истолковывается как познания в какой-либо области, известия, сообщения, знания или представления о чем-нибудь
[4, с. 689]; слово «разъяснение» подается как объяснение, делание ясным, понятным [4, с. 644], а слово «ознакомление» – как форма дачи кому-либо сведений о чем-либо [4, с. 226, 439].
Схожая картина наблюдается в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где термин «информация» преподносится именно в качестве сведений, а также сообщений и данных, независимо от формы ее материального (вещного) обрамления [1].
Как видим, во всех упомянутых филологических источниках принципиальных различий между содержательной природой информации и ее натурным проявлением в образе данных не обнаруживается. Более того, понятие «данные», в свою очередь, интерпретируется довольно неоднозначно: данные (кем или кому-нибудь) и данные (о ком или о чем-нибудь).
К сожалению, в юридической, технической и прочей научно-популярной литературе терминоло- гические выражения «информация», «сведения» и «данные» отождествляются сплошь и рядом. Вследствие этого происходит не контролируемое и не комментируемое никем смешение философских категорий «формы» и «содержания», вдругорядь утяжеляющее освоение сути проблемы, вынесенной в заголовок настоящей статьи.
В семантическом ракурсе слово «сведения» употребляется подчас совершенно в том же ключе: как форма (пребывания, передачи, получения) информации в образе речи, текста, изображения, цифровых знаков, графиков, таблиц и др.
Не менее иллюстративно и другое ассоциативное его выставление: как познание, известие, сообщение, знание или представление [4, с. 689], о чем, собственно, уже говорилось выше.
Примечательно, что из всех упомянутых слов-заместителей, используемых в настоящей статье во избежание дублирования, наибольшая их часть сводится к декламации лишь формы предоставления «снятой неопределенности» безотносительно ее внутреннего содержания. Хотя смысловое наполнение обсуждаемого термина предполагает, в первую очередь, именно семантическую его нагрузку.
Носителями информации по обыкновению являются физические и юридические лица, бумажные или электронные документы, не идентифицируемые с таковой по своему официальному (документальному) статусу напрямую.
Слово «сведения» выглядит однокоренным со своими немногочисленными подобиями: «ведами», «ведением» и «веданием». И те, и другие в равной мере подразумевают знания (имеющиеся, утраченные, восстанавливаемые и др.). От них, надо полагать, берет свое начало прилагательное «сведущий», то есть компетентный, под личиной которого в уголовном процессе прячется эксперт, специалист либо переводчик (ст. 57-59 Уголовно-процессуального кодекса российской Федерации (далее – УПК РФ)).
Засорение русского разговорного (бытового) и юридического языка заморскими морфологическими заимствованиями2 неминуемо порождает его редуцирование [2, с. 172-174], что заметно затрудняет использование и адекватное восприятие на слух включающей их в оборот родной речи россиянами – участниками живого человеческого общения.
Всесторонний анализ этимологии3 термина «информация» должен исходить из комплекса теоретических положений под объединяющим началом семиотики4. Его сущность изучалась еще древними (античными) мыслителями. Однако до сего времени доминирует мнение, согласно которому впервые он был запущен в обиход отечественных журналистов еще в 30-е годы ХХ века.
Семиотика включает в себя конгломерат научных теорий и представлений, в границах которых изучаются свойства всевозможных знаковых систем. Наиболее ощутимые результаты ею достигнуты в семантике – разделе, предметом ведения которого является значение языковых единиц, стало быть, информации, передаваемой посредством их научного, служебного (профессионального) и бытового применения.
Знаковая система содержит в себе комбинацию абстрактных и конкретных символов, с каждым из которых сопоставляются соответствующие значения.
Одним из важнейших достижений в рассматриваемой области является создание аппарата семантического анализа, позволяющего передавать смысл любого рабочего материала посредством употребления естественного языка и его записи на некоем формализованном эталоне.
Семантический анализ в своей основе предназначен для создания устройств или программ, внедряемых целевым порядком для машинного перевода текста с одного естественного языка на другой. Сказанное приобретает принципиальное значение в ходе выявления, расследования и раскрытия преступлений, где далеко не последнюю роль играет правильное толкование, а стало быть, понимание и применение различных юридических формулировок, представляющих собой своеобразные заготовки, берущиеся, в первую очередь, из УПК РФ. Однако они, в свою очередь, нередко отягчаются примитивным жаргоном (сленгом), культивируемым сотрудниками правоохранительных органов в своей ежедневной оперативно-служебной практике.
В целях нейтрализации подобных заблуждений и злоупотреблений термин «информация» необходимо увязывать только со сведениями , запрашиваемыми и получаемыми субъектом поисково-познавательной деятельности и доказывания в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса.
Отмеченный постулат чрезвычайно важен для оперативно-розыскного и уголовно-процессуального доказывания, где любая морфологическая конструкция, претендующая на статус доказательства, приобретает громадное, если не сказать определяющее, значение.
Принято за аксиому, что пионером информационной теории был Ральф Хартли, введший понятие информации (энтропии) как случайной переменной, и попытавшийся вычислить ее величину. Тем не менее, несмотря на широкую популярность, выдвинутое и обоснованное им воззрение было подвергнуто нещадной критике, а термину «информация» во многих отраслях знаний в повременные исторические периоды присваивались самые невообразимые смыслы.
По мере дальнейшего развития науки и техники в распоряжении ученых объявился фразеологизм «информационный процесс», расшифровкой которого занялись две конкурирующие дисциплины – информатика и кибернетика. Информатика, отпочковавшаяся от кибернетики в середине ХХ столетия, занялась самостоятельным поиском наиболее рациональных средств получения, хранения, обработки, преобразования и передачи ее квинтэссенции – ин-формации5.
Примерно с этого же момента времени упомянутое словосочетание превратилось в общенаучную категорию, подразумевающую:
• обмен сведениями между их потенциальными носителями (пользователями): людьми, человеком и автоматом (машиной), автоматом и автоматом; • обмен сигналами в животном и растительном мире;
-
• передачу генетической информации, то есть наследственных признаков, от одной клетки к другой, а равно от организма к организму.
В международных и российских стандартах вплоть до настоящего дня разрабатываются самые невообразимые дефиниции информации, относящиеся:
-
• к знаниям о предметах (объектах), фактах, яв лениях и идеях, которыми обмениваются между собой люди в занимающем их контексте;
-
• знаниям о фактах, событиях, явлениях и иде ях, имеющим в заявленном для них значении строго индивидуальную поисково-познавательную и удостоверительную (доказательственную) ценность;
-
• сведениям, получаемым человеком или спе циальным техническим устройством (ЭВМ) в облике символов материального или духовного мира (плана).
В соответствии с означенным подходом дифференцируются наиболее приемлемые приемы определения информации:
-
• традиционный, или обыденный прием, в рам ках которого под ней разумеются сведения, знания и сообщения о реальном положении дел, черпаемые пользователем извне с помощью органов чувств или специальных программных (технических) устройств (средств);
-
• вероятностный прием, посредством которого информация интерпретируется в качестве сведений об объектах (явлениях) окружающей действительно-
- сти (среды), их параметрах, свойствах и состояниях, уменьшающих степень имеющейся о ней (о них) неопределенности, то есть неполноты знаний.
В Российской Федерации философское осмысление термина «информация» началось с середины 1960-х годов, когда увидела свет статья А.Д. Урсула «Природа информации», имевшая логическое продолжение впоследствии [5]. С тех самых пор в научный обиход были запущены две основополагающие идеи, по-разному изъяснявшие этимологию описываемого термина, – атрибутивная и функциональная.
Атрибутивная концепция превозносила информацию как абстрактную субстанцию, свойственную всем без исключения физическим системам и процессам, тогда как функциональная концепция ограничивала подобающую оценку исключительно самоорганизующейся их частью.
Обе концепции в ходе своего историко-эволюционного развития опирались на объективное свойство материи с отсылкой к философской категории отражения (отображения). Тем не менее в них в одинаковой степени не уделялось должного внимания объективной реальности. Упускалось из виду то, что в тех формах, в которых информация представала пред взорами ученых на момент ее визуального либо слухового восприятия, она выглядела фантомом субъективного сознания, в свою очередь, являвшегося продуктом высшей формы (организации) материи. Иными словами, адепты обоих направлений, игнорируя психический остов сознания, сразу же относили информацию к свойству материи, воображая ее при этом неотъемлемым атрибутом последней.
Вследствие образовавшейся незадачи сторонники сформировавшихся в этой части умонастроений не смогли вывести единой и выверенной (универсальной) формулы для термина «информация», ибо их умонастроения на сей предмет обогащались приемлемым для таких суждений знанием только в отношениях межличностного порядка.
В последние годы информация стала превозноситься в качестве важнейшего ресурса и одновременно движущего начала в развитии общества и цивилизации в целом. При непритязательном подходе в слове этом нетрудно узреть два корневых компонента (-форма- и -формация-), лежащих, как может показаться на первый (и неверный) взгляд, в его основании.
В Толковом словаре русского языка термин «форма» определяется:
• как способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением; • внешнее очертание, наружный вид предметa; • совокупность приемов и изобразительных средств художественного произведения;
• материальное выражение грамматического значения (в языкознании);
• внешний вид, видимость, нечто противоречащее внутреннему содержанию, действительности; • установленный образец чего-нибудь [4, с. 689].
Очевидно, что из всех перечисленных образчиков ближе всего к теме разговора, ведущегося в настоящей статье, подходят лишь первые два.
Если же рассуждать о формации, то данное понятие сопрягается со стадией в развитии общества, его структурой; системой взглядов… [4, с. 843, 844], что, как несложно убедиться, не имеет ни прямого, ни косвенного касательства к разбираемым в настоящей статье вопросам.
При любом раскладе первоочередной задачей ученых, занятых изучением этимологии и семантических основ термина «информация», является разработка его истинного назначения, что сможет потворствовать поиску эффективных способов ее своевременного истребования, получения, фиксации, преобразования и легализации (реализации) в ходе выявления, расследования и раскрытия преступлений.
Неоспоримость приведенного выше тезиса вряд ли может быть подвергнута сомнениям. Обусловливается сказанное тем, что, приступая, например, к осмотру места происшествия с опорой на апробированные криминалистические техники анализируемого толка, а также соблюдением заранее предустановленных правил должностного поведения, сле- дователь в состоянии сиюминутно «проявить» (воспроизвести) в наблюдаемом им пространстве полную следовую картинку совершенного уголовно наказуемого деяния, то есть приобрести инструмент, активизирующий процесс получения им эксклюзивной доброкачественной информации о всех обстоятельствах происшедшего, которую обязан зафиксировать в протоколе надлежащего следственного действия с отсылкой на использовавшиеся при этом техникокриминалистические средства.
Претворение в жизнь приведенных приемов помимо чисто оперативного (прикладного) эффекта, то есть быстрого раскрытия преступлений по горячим следам, будет содействовать ощутимой экономии оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных и розыскных издержек, разрастающихся в виде снежного кома при эксплуатации субъектом поисково-познавательной деятельности и доказывания в штатном режиме расследования и в его завершенном формате наиболее подходящих (для случая) частных (видовых) криминалистических методик [3, c. 104].
Неоценимый для подобных следственных ситуаций правовой и криминалистический потенциал становится чрезвычайно притягательным для скорейшего выявления, расследования и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, учитываемых, прежде всего, по линии уголовного розыска.
Список литературы Термин "информация" как предмет семантического анализа
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст. 3448.
- Бажанов С.В., Морохова О.А. Юрислингвистика и проблемы юридической терминологии // Вестник Владимирского юридического института. 2006. № 1. С. 172-174. EDN: KUAYKZ
- Бажанов С.В. Полицейское дознание в уголовном процессе Российской Федерации: монография. Москва: Издательская группа "Наука" МИИ, 2014. С. 104.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Издание 3-е, стереотипное. 72500 слов и 7500 фразеологических выражений. Москва: АЗЪ, 1995. EDN: SIQETT
- Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк. 2-е издание / Челябинская государственная академия культуры и искусств; Научно-образовательный центр "Информационное общество"; Российский государственный торгово-экономический университет; Центр исследования глобальных процессов и устойчивого развития. Челябинск, 2010.