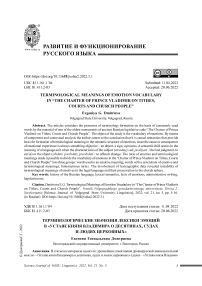Терминологические значения лексики эмоций в «Уставе князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных»
Автор: Дмитриева Евгения Геннадьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале одного из древнейших памятников древнерусской законодательной мысли - «Устава князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных» (далее - «Устава князя Владимира...») - рассматриваются процессы формирования терминологии на основе общеупотребительных слов. Объект исследования составляет лексика эмоций. Опираясь на результаты компонентного и контекстуального анализа, автор приходит к выводу о том, что базой для формирования терминологического значения эмотивов послужила выражаемая ими каузальная семантика, поскольку причиной или следствием эмоционального переживания всегда выступает нечто объективное - предмет, признак, процесс. Установлено, что семантический сдвиг происходит в слове тогда, когда меняются характеристики субъекта (страшный суд, проклясть) или объекта (обидети, пообидети, преобидети). Соотношение эмотивного и терминологического значений позволило разделить лексику эмоций в «Уставе князя Владимира...» на три группы: слова, используемые в эмотивном значении; слова, в значении которых наблюдается синкретизм эмотивного и терминологического значений; термины-омонимы. С привлечением лексикографических данных выявлена неустойчивость терминологических значений эмотивов, употребленных в юридическом тексте, и сохранение их в текстах, функционирующих в церковной сфере.
История русского языка, лексическая семантика, лексика эмоций, деловая письменность, законодательный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/149140773
IDR: 149140773 | УДК: 811.161.1’04 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.5.1
Текст научной статьи Терминологические значения лексики эмоций в «Уставе князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных»
DOI:
Изучение формирования и развития делового стиля русского языка продолжает привлекать пристальное внимание ученых: объектом разноаспектного анализа становятся как уже известные, так и еще не исследованные тексты, в научный оборот вводятся архивные фонды и коллекции (см., например: [Рыбалко, Дмитриева, 2017; Документы Войска Донского..., 2020; и др.]).
Наблюдения над лексическим составом разнообразных в жанровом отношении памятников деловой письменности дают возможность выявить закономерности развития лексической системы русского языка в целом и отдельных классов слов, ее составляющих, в частности терминов. Как самостоятельные исследовательские области сформировались историческое терминоведение и историческая терминография (подробно о специфике этих направлений лингвистики см., например: [Борх-вальдт, 2000; Киржаева, 2014]).
Принято считать, что термин в современном понимании – единица, характеризующаяся прежде всего наличием дефиниции (подробно о признаках термина см.: [Косова, 2003, с. 34–72]), – появляется в памятниках письменности на рубеже XVII–XVIII веков. Применительно к более ранним текстам говорить о терминах можно лишь с определенной долей условности, в широком смысле, как о словах, которые являются устоявшимся наименованием реалий, связанных с той или иной сферой, социальным институтом.
Многие такие прототермины возникали на базе общеупотребительных лексем, относящихся к разным частям речи [Горбань и др., 2015, с. 298]. По этой причине актуальным представляется изучение формирования терминологических значений у слов, принадлежащих к определенной лексической группе, которое позволит охарактеризовать ее семантический потенциал, а также описать механизмы складывания отдельных терминосистем.
Материал и методы
Источником языкового материала избран текст «Устава князя Владимира...» в изводе Синодальной редакции, относящемся к XIV веку 1. Сохранившийся более чем в двухстах списках памятник был хорошо известен на территории Руси и за ее пределами (УВ, с. 12), Синодальная редакция – наиболее распространенная.
С точки зрения юридической науки «Устав князя Владимира...» фиксирует каноническое, или церковное, право, и, хотя он практически не касается внутрицерковной жизни, в его лексическом составе можно выделить как юридические, так и церковные специальные наименования.
В центре нашего внимания находятся механизмы формирования терминологических значений на базе лексики эмоций, понимаемой как совокупность лексем, служащих для обозначения и описания эмоций и чувств, а также процессов их становления и внешних прояв- лений. При изучении терминологизации эмо-тивной лексики мы опираемся на результаты, полученные нами при анализе ее функционирования в агиографических текстах. В житиях для передачи эмотивных значений релевантны такие семантические компоненты, как ‘эмоциональное переживание’ (маркер принадлежности к группе эмотивов), ‘характер эмоции’, ‘интенсивность эмоционального переживания’ [Горбань и др., 2015, с. 188], ‘оценка эмоционального переживания’ [Дмитриева, 2021, с. 58]. При этом случаи семантической деривации 2, в которых в качестве мотивирующих выступали бы эмотивные лексемы, в древнерусском и старорусском материале редки и житиям не свойственны.
В связи с этим вызывают интерес деривационные возможности эмотивной лексики, которые проявляются в деловых текстах, а также установление семантических признаков, реализация которых приводила к формированию у слов этой группы терминологических значений.
При исследовании истории эмотивов особое внимание уделяется синкретизму лексических значений (подробно о термине см., например: [Пименова, 2011; Горбань, Шепту-хина, 2017; Gorban’, Sheptukhina, 2017]), что требует рассмотрения семантических процессов в диахроническом плане, поскольку оно дает возможность выявить случаи сохранения синкретизма и его преодоления.
Результаты и обсуждение
Семантика эмотивных единиц может быть рассмотрена в связи с категорией каузальности: с одной стороны, возникающее чувство соотносится с действием или предметом, которые его вызвали, с другой – эмоции находят свое внешнее проявление, мыслятся как причина поступков и поведения человека.
В лингвистике отношения каузальности рассматриваются в рамках различных подходов (см., например, монографические работы: [Аматов, 2003; Всеволодова, 2008; Теремова, 1985; Ященко, 2006; и др.]), при этом подчеркивается, что семантика причины и следствия находит свое категориальное выражение на синтаксическом, морфологическом и лексическом уровнях языка.
Такие отношения, применительно к лексике эмоций, проявляются в парадигматических связях слов и между значениями одного слова 3. Так, в рамках семантического множества глаголов эмоций могут быть выделены языковые единицы, обозначающие процесс эмоционального переживания ( веселиться , любить , ненавидеть , радоваться , скорбеть , ужасаться , умиляться , уповать и др.); следствие эмоционального переживания ( плакать , смеяться , улыбаться и др.); эмоциональное воздействие ( веселить , оскорбить , прогневать , смутить , утешить и др.) [Горбань и др., 2015, с. 185].
В истории многозначных эмотивов отмечается регулярный метонимический перенос «причина эмоционального переживания – эмоциональное переживание», отражающий результаты взаимодействия конкретно-пространственных и абстрактно-пространственных представлений человека о мире (подробно о терминах см.: [Лопушанская, 1998, с. 340]). При этом причина мыслится как нечто объективное, рациональное, а возникающее переживание – субъективное, эмоциональное. Это деление опосредовано отражено в лексическом значении слов.
В истории конкретных лексем может меняться соотношение между рациональным и эмоциональным значениями . Именно на базе первого возможно формирование термина. Показательным в этом отношении является существительное обида 4, используемое в «Уставе князя Владимира...»:
-
(1) Nj k.ib w ( e ) hr ( j ) dys | 4 , , ( ju ) fi4kys4 . V2nhj | g3kbn] bkb g ( b ) c ( re ) g] d4 | iftnm v e ;b bVb | C=l] , bkb 3,blf , bk2 | rjnjhf , bkb dhf;if , | bkb pfiybwf (УВ, л. 629 об.).
В словаре М. Фасмера для глагола обидеть дается праформа * ob-viděti , устанавливается связь с глаголами видеть (Фасмер, т. 3, с. 100) и завидовать (Фасмер, т. 2, с. 72). Существительное обида и глагол обид 4 ти отмечаются в древнерусских текстах с XI в., прилагательное обидьный – с XIV в., другие производные ( обидчивый , обидчик ) фиксируются в словарях с 1771 г. (Черных, т. 1, с. 585).
Существительное обида уже в древнерусском языке обладало развитой системой значений, входило в ряд устойчивых сочета- ний. Основным значением для него авторами «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» признается «несправедливость, зло, насилие» (СДР, т. 5, с. 473), рассматриваемый пример (1) является иллюстрацией для другого значения – «вражда, ссора» (СДР, т. 5, с. 474). Эмотивные значения даются как неосновные (СДР, т. 5, с. 474). В «Материалах для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского основным признается эмотивное значение «обида, оскорбление», значение «ссора» (Срезн., т. 2, стб. 502–504). Авторы «Словаря русского языка XI–XVII вв.» собственно эмотивное значение («чувство обиды») не выделяют (СРЯ XI–XVII, вып. 12, с. 49).
Термин обида в древнерусском языке характеризуется синкретизмом значений, будучи наименованием правонарушения и эмоционального переживания, вызванного нарушением прав. По-видимому, в древнерусском языке лексема обида выражала результат отрицательного физического и/или психологического воздействия на объект, проявляющийся и в определенном наносимом вреде, и в специфическом эмоциональном состоянии. Позднее обида была переосмыслена как действие, имеющее конкретный результат, что и закрепилось в сложном комплексе значений юридического наименования обида .
Привлечение лексикографических данных позволяет проследить дальнейшее развитие семантики слова. В русском языке XVIII в. существительное обида имело значения «действие, причиняющее вред, ущерб, убыток кому-л.» и «незаслуженное огорчение, оскорбление, а также чувство, вызванное таким огорчением» (СРЯ XVIII, вып. 15, с. 237– 238). Широкое толкование слова обида находим в словаре В.И. Даля: «всякая неправда, тому, кто должен переносить ее; все, что оскорбляет, бесчестит и порицает, причиняет боль, убыток или поношение» (Даль, т. 2, стб. 1506).
В «Словаре церковнославянского и русского языка...» существительное обида фиксируется в двух значениях: 1) «оскорбление на словах или на деле»; 2) «убыток» (СЦРЯ, т. 3, с. 13). В «Полном церковно-славянском словаре», составленном Г. Дьяченко, существительное обида зафиксировано в двух значениях: 1) «корыстолюбие, обман»; 2) «несправедливость» (ПЦС, т. 1, с. 362).
В «Большом академическом словаре русского языка» существительное обида имеет два значения: 1) «несправедливо причиненное, незаслуженное огорчение, оскорбление, нанесенное кем-л. кому-л.; чувство душевной боли, горечи, досады, вызванное таким огорчением, оскорблением»; 2) в значении предикатива – разговорное «о том, что вызывает чувство огорчения, досады, заставляет пожалеть о чем-л.» (БАС, т. 13, с. 103–104).
В национальный период развития русского языка семантика слова обида претерпела изменения. Хотя терминологическое значение фиксируется еще в текстах XVIII в., в современном русском языке это слово сохранило только эмотивную семантику. Древний синкретизм значений разрушен, его отголоском можно считать запечатленные в значении отношения каузальности, подразумевающие обязательное наличие причины данного эмоционального переживания.
Взаимодействие эмоциональных и рациональных смыслов становится определяющим в процессе складывания терминологических значений лексики эмоций. Такие значения фиксируются уже в древнерусских деловых памятниках. Например, в «Русской правде» представлены три группы эмотивных лексем в зависимости от соотношения в их значениях рациональных (терминологических) и эмоциональных (общеязыковых) элементов: 1) слова, сохраняющие значение эмоционального переживания; 2) эмотивы, развившие дополнительное терминологическое содержание, характеризующиеся определенным семантическим синкретизмом; 3) термины-омонимы, сформировавшиеся в результате семантической деривации на базе эмотивных лексем [Дмитриева, 2017, с. 38].
В составе лексики эмоций, используемой в тексте «Устава князя Владимира...», также возможно выделить названные группы.
1. Эмотивные лексемы, не подвергшиеся терминологическому переосмыслению, представлены существительным радость и прилагательным чудьный :
-
(2) U ( j ) c ( gji ) m h ( e ) x e : d i ( e ) ym v e cnm d] || pifvm c ‘ i e h;fobv] | y e ghfd ‘ 1= d hfp=v4 , | n4[] зиут y e =ufcy e | nm b x e hdm b[] y e =vh e | nm , cndjhibv] ; e ,kf | ufz - d] ;bpym b d ‘ hfij | cnm b y e bph e x e yy=. (УВ, л. 629 об.);
-
(3) ... f | bp IjVjd] yf dC5rj | k4nj 3П dC5rjUj cnf | lf b зп dC5rjuj ;b | nf x.iyjv= Cg ( f ) ce b x.iy4b tuj v ( f ) n ( e ) hb (УВ, л. 628).
2. Эмотивные лексемы, характеризующиеся синкретизмом эмотивного и терминологического (рационального) значений представлены прилагательным
страшный
и причастной формой
прокляты
:
Слова с корнем -рад- отмечаются в языках различных славянских народов, однако они практически не имеют родственных связей в других индоевропейских языках (Черных, т. 2, с. 93). Существительное радость уже в древнерусский период выступает как полисемант с основным эмотивным значением – «радость, радостное чувство, радостное состояние» (СДР, т. 9, с. 460), «чувство душевного удовлетворения, веселия» (Срезн., т. 3, стб. 13): Синкретизм значения существительного («причина чувства – чувство») отражен в толковании основного значения лексемы в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» – «радость, а также событие, лицо, вызывающее это чувство» (СРЯ XI–XVII, вып. 12, с. 49).
Прилагательное чудьный использовалось в древнерусских текстах с XI в. и восходит к индоевропейскому корню со значениями «проникаться уважением, почтением», «замечать», «слава», «репутация» (Черных, т. 2, с. 395), сближаясь с глаголами чуять , чувствовать (Фасмер, т. 4, с. 378). В «Материалах для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского данная лексема фиксируется как многозначная, основным признается значение «достойный удивления», в качестве иллюстрации фрагмент анализируемого текста (3) привлекается при объяснении значения «почитаемый, чтимый» (Срезн., т. 3, стб. 1549). Возможно, значимой оказывается этимологическая связь с существительным чудо : «творящий чудо» – «удивляющий» – «достойный почитания».
-
(4) F rnj gj3,bi2 | nm c=i] w ( e ) hrjdysb , gkf | пьпь tv= cj,j. . f g e | h e i , ( juj ) vm njv= ;’ 3nd4 | xfnb yf cnhfiy4v] | c=i4 ... (УВ, л. 629).
-
(5) ... f gj3,bi5nm c= | i] w ( e ) hr ( j ) dysb , bkb | rnj bysb , if ,=1/ 1 nm ghjrk5nb d ‘ cbb | d4r] b d ‘ K=i=ob2 1 c e vb. p,jhjd] c ( dz ) n ( s ) [] | з ( п е ) wm dc e k e ymcrs[] (УВ, л. 629 об.).
Прилагательное страшный , производное от существительного страх со старшим значением «оцепенение» (Фасмер, т. 3, с. 772), по-видимому, восходит к индоевропейскому корню, с которым связаны такие лексемы, как строгий , торчать (Черных, т. 2, с. 207). В древнерусском языке прилагательное страшный выступало как полисемант: 1) «вызывающий страх или трепет», 2) «боязливый, робкий», выражение страшный суд без дополнительного толкования относится авторами к основному значению (СДР, т. 11, с. 619– 622); 1) «внушающий страх, ужасный», 2) «наполняющий страхом, трепетом», устойчивое выражение страшный суд фиксируется в рамках реализации данного значения, 3) «великий, тяжкий», 4) «сильный, жестокий», 5) «изумительный» (Срезн., т. 3, стб. 546– 547). В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» выражение страшный суд выступает многозначным: 1) «о Божьем суде над всеми людьми при наступлении конца света», 2) «название иконы» (СРЯ XI–XVII, вып. 28, с. 246).
По-видимому, можно говорить о формировании в рамках идиомы терминологического значения, характеризующегося внутренним синкретизмом: прилагательное страшный , выступая в составе устойчивого оборота страшный суд , не теряет связи со сферой чувств, но становится наименованием определенного события, действия, предмета и приобретает религиозную семантику.
Чтобы проследить дальнейшую историю этого выражения, необходимо обратиться к толковым словарям. В «Полном церковно-славянском словаре», составленном Г. Дьяченко, страшный – «внушающий почтение, благоговение, достопочтимый; удивительный, чудный», «величественный», «блистательный, светлый»; выражение страшный суд объясняется следующим образом: «В неделю мясопустную (воскресенье пред масленицею), у алтарей Успенского собора на площадке. После утрени, происходило действо Страшного суда: торжественное моление пред иконою пришествия Господня» (ПЦС, т. 2, с. 672).
В «Толковом словаре живого великорусского языка» выражение страшный суд – «всемирный, ожидаемый во второе пришествие» – помещено в словарную статью с вокабулой суд (Даль, т. 4, стб. 622).
В «Словаре современного русского литературного языка» прилагательное страшный толкуется как многозначное. В рамках основного значения «вызывающий, внушающий чувство страха; пугающий» отмечается устойчивое сочетание страшный суд – «по религиозным представлениям – суд, который якобы будет устроен богом над всеми людьми, когда наступит “конец мира”» (ССРЛЯ, т. 14, стб. 1017).
Устойчивое выражение страшный суд во фразеологических словарях характеризуется как книжное, имеющее значение «справедливый, неподкупный, грозный суд» (РФ, с. 676).
Дефиниции толковых словарей не включают эмотивный компонент, однако сохранившаяся семантическая связь с прилагательным страшный может свидетельствовать об остатках синкретизма значений.
Значение глагола клясться возникло из «проклинать себя», форма восходит к клонить , так как при произнесении клятв касались земли рукой (Фасмер, т. 2, с. 259).
Страдательное причастие от производного глагола прокляти в основном значении «проклясть, предать проклятию» (СДР, т. 9, с. 82), «проклясть, призвать проклятие» (Срезн., т. 2, стб. 1535–1537), «предать проклятию, призвать на кого-л. проклятие» (СРЯ XI–XVII, вып. 20, с. 152) используется в контексте (5). Поскольку в анализируемом памятнике речь идет о церковном суде, отличия данного значения от имеющегося в перечисленных лексикографических источниках толкования «предать анафеме; отлучить от церкви» неочевидны.
Глагол проклясть уже в древнерусском языке совмещает выражение личного неприятия, связанного в том числе и с чувственной сферой, и общественного осуждения, выражающегося в определенном церковном ритуале, а значит, имеет терминологическое значение.
В словаре В.И. Даля толкования глагола проклясть делятся по сфере функционирования: церковное «предать анафеме, отлучить от церкви» и гражданское «лишать благоволения, изгонять от себя, лишая наследия и всякого общения». Без помет дается эмо-тивное значение «ругать, поносить, призывать на кого-либо бедствия, желать кому-либо зла, ненавидеть» (Даль, т. 3, стб. 1280–1281).
В «Словаре церковнославянского и русского языка...» зафиксированы глаголы клясть – «предавать проклятию» (СЦРЯ, т. 2, с. 181) и проклинать ( проклясть ) – «отлучать от благодатного общения с церковью; лишать благословения» (СЦРЯ, т. 3, с. 534), совпадающие во втором значении «злоречить и зложелать».
Согласно «Словарю современного русского литературного языка» и «Большому академическому словарю русского языка» глагол проклинать ( проклясть ) имеет два значения: 1) «предавать проклятию»; 2) обычно несов . «выражать сильное недовольство, возмущение кем-, чем-либо; бранить кого-, что-либо» (ССРЛЯ, т. 11, стб. 1153–1154; БАС, т. 21, с. 98–99).
Данные современных толковых словарей показывают, что терминологическое значение «предать анафеме» не фиксируется. Возможно, это свидетельствует о том, что, будучи функционально ограниченным, оно отошло к сфере Церкви.
-
3. При разграничении полисемии и омонимии мы опираемся на принципы, разработанные и апробированные С.П. Лопушанской и ее учениками, принимая в качестве важнейшего критерия сохранение или нейтрализацию категориальной лексической семы [Лопушан-ская, 1988, с. 15].
К парам омонимов с эмотивным и терминологическим значениями могут быть отнесены обид 4 ти 1 ( пообид 4 ти 1 и преобид 4 ти 1) «вызвать эмоциональное переживание обиды» – обид 4 ти 2 ( пообид 4 ти 2 и преобид 4 ти 2) «нарушить права». В рассматриваемом памятнике отмечены омонимы с терминологическим значением:
-
(6) F CdjbV] nb=yjv] | ghbrfpsdf. c=lf w e l hrjdyfuj ye звь14пь | ь C] c=if ifdfnb ^ xf | cnbb ry5p. , f i - z c ( dz ) n4 | b w ( e ) hrdb (УВ, л. 629);
-
(7) B CdjbV] | nb=yjv] ghbrfps | df. w ( e ) hr ( j ) dyfuj c= | lf , ye 3,bl4nb , yb | c=lbnb , e p] dk ( f ) i ( s ) xb5 yfv4cnybrf (УВ, л. 628 об.);
-
(8) F rnj gj3,bi2 | nm c=i] w ( e ) hrjdysb , gkf | пьпь tv= cj,j. . f g e | h e i , ( juj ) vm njv= ;’ 3nd4 1 xfnb yf cnhfiy4v] | c=i4 ... (УВ, л. 629);
-
(9) ... f gj3,bi5nm c= | i] w ( e ) hr ( j ) dysb , bkb | rnj bysb , if ,=1/ | nm ghjrk5nb d ‘ Cbb | d4r] b d ‘ K=i=ob2 | c e vb. p,jhjd] c ( dz ) n ( s ) [] 1 3 ( n e ) wm dc e k e ymcrs[] (УВ, л. 629 об.);
-
(10) F;e rnj ghe3 | ,bibnm yfim o=cnf | d] , nfrjdsv] ye || ghjoeysv] ,snb | 3n pfr3yf , ( j ) ;bzb | ujhe cj,4 yfck4i=.nm (УВ, л. 629).
Обратимся к данным исторических словарей.
Глагол обид 4 ти фиксируется в основном значении «отнестись (относиться) несправедливо, причинить (причинять) зло, совершить (совершать) насилие», для иллюстрации оттенка которого – «причинить (причинять) убыток, материальный ущерб кому-л., чему-л.» – привлекается контекст из анализируемого памятника (6) (СДР, т. 5, с. 476). И.И. Срезневский в основном значении – «относиться несправедливо, обижать, оскорблять» – совмещает рациональный и эмотивный компоненты значения (Срезн., т. 2, стб. 505–506), аналогично трактуется основное значение и в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» – «нанести (наносить) моральный или материальный ущерб, оскорбить (оскорблять), притеснить (притеснять)» (СРЯ XI–XVII, вып. 12, с. 50).
В текстах XVIII в. глагол обид 4 ти употреблялся в значениях «нанести каким-л. действием вред, ущерб, убытки кому-л.; притеснить» и «нанести обиду кому-л., оскорбить» (СРЯ XVIII, вып. 15, с. 238).
В словаре В.И. Даля обидеть толкуется как «наносить, творить обиду, оскорблять, причинять кому-либо неправо неприятность» (Даль, т. 2, стб. 1506), приставочные образования от данной лексемы не отмечены.
В «Словаре церковнославянского и русского языка...» глагол обижать (сов. обидеть ) зафиксирован в значении «наносить обиды; оскорблять» (СЦРЯ, т. 3, с. 13). Г. Дьяченко глагол обид 4 ти объясняет следующим образом «кругом ходить, притеснять, оскорблять, осматривать кругом» (ПЦС, т. 1, с. 362).
В «Большом академическом словаре русского языка» глагол обижать ( обидеть ) имеет три значения: 1) «причинять, наносить кому-л. обиду»; 2) разговорное «наносить ущерб кому-л. в делах; причинять убытки, обманывать в денежных расчетах»; 3) разговорное «то же, что обделять» (БАС, т. 13, с. 106).
В русских говорах глагол обидеть фиксируется как многозначный: 1) «причинять огорчения; бранить, ругать», 2) «вырезать слишком много меда», 3) «разорить гнездо», 4) «кусать (о насекомых)» (СРНГ, вып. 22, с. 58).
Глагол пообид 4 ти – «пренебречь, не оказать уважения» – отмечается «Словарем древнерусского языка (XI–XIV вв.)» только в тексте «Устава князя Владимира...» (СДР, т. 7, с. 185). И.И. Срезневский основное значение этого глагола определил как «оскорбить», а сочетание пообид 4 ти с / дъ цьрковьныи фиксируется как идиоматическое, имеющее значение «нарушить судебные права церкви» (Срезн., т. 2, стб. 1187). Авторы «Словаря русского языка XI–XVII вв.» также выделяют данное идиоматическое выражение, а значение лексемы толкуют как «нанести кому-л. материальный или моральный ущерб; поступить несправедливо, обидеть» (СРЯ XI–XVII, вып. 17, с. 69). Следует отметить, что в обоих словарях устойчивое выражение иллюстрируется только примерами из «Устава князя Владимира...».
В «Словаре русского языка XVIII века» глагол пообид 4 ть не зафиксирован, но отмечена просторечная лексема пообид 4 ться – «обидеться» (СРЯ XVIII, вып. 22, с. 34–35).
В русских говорах зафиксирован глагол пообидеть – «нанести вред; испортить, повредить» (СРНГ, вып. 29, с. 282).
Глагол преобид 4 ти в «Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.)» выступает как многозначный: 1) «причинить (причинять) вред, совершить (совершать) насилие; обидеть (обижать)»; 2) «пренебречь (пренебрегать), проявить (проявлять) пренебрежение, нерадение, оставить (оставлять) без внимания»; 3) «отвергнуть (отвергать), отказаться (отказываться)»; 4) «нарушить (нарушать)» (СДР, т. 8, с. 239–241). В качестве иллюстрации для последнего значения используется фрагмент из анализируемого текста (10). И.И. Срезневский выделяет большее количество значений, однако заключает перечень тем же значением «нарушать» (Срезн., т. 2, стб. 1675–1676).
В «Словаре церковнославянского и русского языка...» зафиксирован глагол пре-обиждати (сов. преобид 4 ти ) – 1) «наносить обиду; оскорблять»; 2) «пренебрегать, презирать» (СЦРЯ, т. 3, с. 444). В «Полном церковно-славянском словаре» преобид 4 ти : 1) «очень обидеть, зло кому сделать»; 2) иногда «презреть» (ПЦС, т. 1, с. 488).
На использование глаголов обид 4 ти , пообид 4 ти и преобид 4 ти в общем для них терминологическом значении «нарушение прав / юридических норм» в изучаемом памятнике указывают характеристики объекта, не способного испытывать эмоциональные переживания, – церковный суд , устав . Рассмотрение истории лексем свидетельствует о том, что терминологическое значение утеряно. У сохранившегося в современном русском литературном языке глагола обидеть фиксируется рациональное значение «наносить ущерб», которое не связано с обозначением эмоциональных переживаний, однако оно функционально ограничено.
Выводы
Результаты анализа использования лексики эмоций в тексте «Устава князя Владимира...» и их сопоставление с лексикографическими данными свидетельствуют о том, что образование терминологических значений у эмотивной лексики носило регулярный характер и обусловливалось прежде всего сферой ее использования.
Терминологические значения возникали у слов различной частеречной принадлежности (глаголов, существительных, прилагательных). Базой для их появления служили семантические компоненты, отражающие объективную, рациональную сторону называемых предметов, процессов, признаков и отражающие в смысловой структуре эмотива каузальные отношения – причину или следствие эмоционального переживания.
Терминологические значения могли сохранять связь с эмотивной семантикой, по отношению к таким лексемам можно говорить о внутреннем синкретизме, а также формировать термины-омонимы.
Образование юридических терминов на основе эмотивов в истории русского языка ограничилось древнерусским периодом. В целом эти специальные наименования оказались малочисленны и со временем ушли из словарного состава. Однако в религиозной сфере устойчивые сочетания на базе эмотивных лексем, имеющие терминологическое значение, закрепились, что отражают данные современного русского языка.