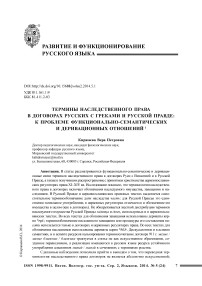Термины наследственного права в договорах русских с греками и Русской Правде: к проблеме функционально-семантических и деривационных отношений
Автор: Киржаева Вера Петровна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 5 (24), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются функционально-семантические и деривационные связи терминов наследственного права в договорах Руси с Византией и в Русской Правде, а также в получивших распространение с принятием христианства церковнославянских регуляторах права XI-ХIV вв. Исследование показало, что терминология наследственного права в договорах включает обозначения наследуемого имущества, завещания и наследников. В Русской Правде и церковнославянских правовых текстах выделяется самостоятельное терминообозначение доли наследства часть: для Русской Правды это единственно возможное употребление, в церковных регуляторах отмечается и обозначение им имущества в целом (как в договорах). Не обнаруживается жесткой дистрибуции терминов наследуемого имущества Русской Правды задница и домъ, используемых и в церковнославянских текстах. Во всех текстах для обозначения завещания использованы дериваты корня *rÌd-; терминообозначение письменного завещания или процедуры его составления писати используется только в договорах и церковных регуляторах права. Во всех текстах для обозначения наследников использованы дериваты корня *bliè-. Дискуссионное и в аспекте семантики, и в аспекте ресурсов калькирования терминосочетание договора 911 г. малые /милые ближние / ближики трактуется в статье не как искусственное образование, созданное переводчиком, а реализация имевшегося в русском языке ресурса устойчивого употребления адъективов милый / малый в сочетаниях с терминами родства. Сделанные наблюдения позволили прийти к выводам о том, что переводная терминология наследственного права договоров не является абсолютно искусственной; церковнославянская и древнерусская терминосистемы оказываются до определенной степени открытыми для взаимовлияний.
Язык древнерусского права, церковнославянский регулятор права, юридические тексты средневековой руси, термины наследственного права, терминосистема
Короткий адрес: https://sciup.org/14969822
IDR: 14969822 | УДК: 811.161.1:9 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.5.1
Текст научной статьи Термины наследственного права в договорах русских с греками и Русской Правде: к проблеме функционально-семантических и деривационных отношений
DOI:
Договоры русских с греками, привлекаемые нами для анализа связей использованных в них терминов наследственного права с терминами Русской Правды и церковнославянских регуляторов права, часто оказываются вне зоны внимания историков языка, что свидетельствует об актуальности мнения С.П. Обнорского, касающегося договоров, но вполне относящегося и к другим памятникам древнерусского права: среди их исследователей по большей части мы встречаем историков и историков права, также историков русской литературы, и меньше всего видим здесь лингвистов, историков русского языка [6, с. 99].
Междисциплинарный характер изучения древнерусской правовой терминологии определяет наше обращение не только к результатам работ историко-лингвистических, в которых в той или иной мере содержатся характеристики русской правовой терминологии до XVIII в. (Н.Г. Благова, Л.М. Голиков, Н.Н. Лыкова, Л.В. Попова, Е.А. Федорченко, Е.А. Чащина и др.), но и исторических, историко-правовых, культурно-исторических и др. (обзоры исследований см. в: [3; 7]).
В историко-правовой науке вопрос об использовании договоров как источников наследственного права до сих пор остается дискуссионным. Некоторые ученые отрицают возможность отражения ими реальных отношений наследования на Руси (В.Н. Никольский, К.П. Победоносцев, В.И. Сергеевич, П.П. Цитович, В.Е. Рубаник и др.) или, привлекая для анализа, делают существенные оговорки, напр.: «договоры Руси с Византией нельзя считать первыми памятниками права, которыми определялся общий порядок наследования имущества» [9, с. 8]. Их оппоненты видят в договорах этап становления русского закона о наследовании (И.Д. Беляев, С.И. Карпов, Б.А. Коваленко, К.А. Неволин, Н.Н. Ступникова и др.), один «из первых нормативных источников, позволяющих судить о природе наследования, отражающей характер форми- рования субъективной воли наследователя в средневековой Руси» [5, с. 201].
В историко-лингвистических работах, начиная с Н.А. Лавровского, внимание ученых сосредоточено на характере перевода, соотношении церковнославянизмов и русизмов на всех уровнях языка. Для нас особый интерес представляют оценки переводческой техники, реализуемой в договорах. Так, развивая наблюдения С.П. Обнорского о ее эволюции от преобладающего в раннем договоре калькирования до активного введения в древнерусскую лексическую систему прямых греческих заимствований в договоре 945 г. [6, с. 119, 114], некоторые ученые (М.И. Корнее-ва-Петрулан, I. Sorlin) высказывали предположение о составлении договора 911 г. русской стороной, а 945 г. – византийской. Я. Ма-лингуди убедительно доказывает, что оба договора составлены византийской стороной на основе византийских правовых норм, но делает существенные замечания: в ряде статей составители, отступая от принципов греческого права, «оговариваются словами “по закону русскому”», в случае соответствия византийского права русскому «не только избирают те элементы их права, которые похожи на русское, но и лексически оформляют соответствующие статьи договоров таким образом, чтобы вызвать у читателя или слушателя впечатление схожести правовых норм русских и греков» [4, с. 63].
Современные историки государства и права также считают главным в технике перевода договоров использование имеющихся в языке русского права терминов. Так, В.А. Томси-нов, во-первых, делает вывод о сформирован-ности древнерусской терминологии права («лексика русского языка была в начале X в. достаточно развитой для того, чтобы описать те или иные преступления и наказания, не прибегая к заимствованиям из лексики греческого или каких-либо других иностранных языков»); во-вторых, усматривает юридическую направленность в деятельности переводчиков, бравших «фактически… на себя функции правоведов» и при отсутствии русского эквивалента греческого термина выбиравших «обыкновенно… в родном языке наиболее близкое по значению к нему слово, которое в результате этого приобретало новый смысловой оттенок» [8, с. 4, 21–22].
Иной подход к истории русского права предложен В.М. Живовым, рассматривавшим ее как историю «русского юридического дуализма», жесткой и последовательной оппозиции русского и церковнославянского права. Оспаривая мнение Ю.В. Шевелева и Б.А. Успенского о практическом отсутствии оппозиции церковнославянского и русского на лексическом уровне и свободном перенесении церковнославянских лексем в русский (некнижный) текст, а русских лексем – в церковнославянский, В.М. Живов подчеркивает «совершенно исключительное положение» юридической терминологии: «В этой области церковнославянские и русские лексемы последовательно противопоставлены, образуя целый набор коррелянтных пар – русские термины не встречаются в церковнославянских юридических текстах, церковнославянские термины не характерны для древнейших русских юридических памятников» [1, с. 193–194]. Однако история наследственного права интерпретируется ученым не столько как оппозиция, а скорее, как взаимодействие в практике светского и церковного суда русского и церковнославянского права, формирование единой нормы «на основе синтеза византийского и местного права в их приложении к новым семейно-имущественным отношениям, возникшим после принятия христианства. Эта норма становится общей для светского и церковного суда, и можно думать, что именно она – на разных этапах своего формирования – отражается в Русской Правде и других русских юридических памятниках» [там же, с. 220].
Каково же соотношение переводных тер-минообозначений наследования в договорах с терминами Русской Правды, и какое развитие они получают в переводных церковнославянских регуляторах права, в той или иной мере используемых в церковном и светском суде Древней Руси?
Конкретный материал представляют статья 13 договора 911 г.: О работающих в Гре-цех Руси у хрестьаньскаго цесаря. Аще кто умреть, не уря[ди]в своего именья , ци [и] своих не имать, да възратить имение к малым ближикам в Русь. Аще ли сотворить обряжение таковыи, возьметь уряже-ное его, кому будеть писал наследити именье, да наследить е (ПРП, с. 9), в которой закрепляется порядок сохранения и передачи имущества умершего в Византии русича его родственникам на Руси; а также статья 4 договора 911 г. об убийстве: Аще ли убежить сотворивыи убийство, аще есть имовит, да часть его, сиречь, иже его будеть по закону, да возметь ближний убьенаго (ПРП, с. 7) и аналогичная статья 13 договора 944 г.: Аще убьеть Хрестьянин Русина или Русин Хрестьянина, да держим будеть створивыи убийство от ближних убьена-го, да убьють и. Аще ли ускочить створи-выи убой [и] аще будеть имовит, да возьмуть именье его ближьнии убьенаго (ПРП, с. 33–34), в которых уточняется порядок распределения имущества убийцы. Отметим, что тексты договоров сохранились лишь в составе Повести временных лет и в разных летописных списках содержат варианты выделенных терминов.
Вопросам наследственного права в Русской Правде Пространной редакции посвящены статьи 90–108 (с некоторыми различиями по спискам). Хронологическая адекватность сопоставления их материала с договорами подтверждается выводом А.А. Зимина «о сравнительной архаичности первоначального ядра статей о наследстве», которая проявляется в отсутствии (за исключением ст. 108 в поздней редакции) «штрафов или пошлин, идущих в пользу княжеской казны» (ПРП, с. 178).
Терминообозначения наследственного права в договорах представлены тремя тематическими группами: общее обозначение наследства, обозначение завещания, обозначение наследников.
Общее обозначение наследства передается термином именье в терминосочета-ниях < не> урядити именья, възратити имение, наследити именье . В историко-лексикографических источниках приводится общелексическое значение слова им 4 ни t (-ье) :
‘имущество’ (Срезн. I, стб. 1094–1095; СРЯ 6, с. 226), ‘имущество, состояние’ (СлДРЯ IV, с. 148–149), причем иллюстративный материал включает и контексты из договоров. М.А. Исаев связывает термин имение со сферой имущественного и семейного права – ‘личное или родовое имущество’ (ТСДЮТ, с. 50). Отметим, что вариант именье , указывающий на фонетическую русификацию церковнославянизма, меньшую силу «болгарского воздействия» в договоре 945 г., чем в договоре 912 г. [6, с. 115], использован, например, и в Рязанской Кормчей 1284 г.: им 4 нь 5 дви-жима 5 и недвижима 5 полагати в залогъ (СлДРЯ IV, с. 149).
В контексте статьи 4 договора 911 г.: аще есть имовит, да часть его, сиречь, иже его будеть по закону, да возметь ближний убьенаго (ПРП, с. 7) слово часть в общелексическом значении ‘собственность, имущество’ (Срезн. III, стб. 1478) терминологи-зируется и становится обозначением наследства. Этимологи считают *čęstь славянским новообразованием, для которого полные лексемные соответствия за пределами славянских языков неизвестны, а одним из формирующихся синонимов становится слав. *doľa ; в качестве конкретной первоосновы более общего значения ‘часть, доля’ предполагается слвц. časť ‘одновременно выданное количество корму’ (ЭССЯ 4, с. 107–108).
В Русской Правде нет единого термина для обозначения наследства; в разных списках используются разные деривационно не соотносящиеся термины. Основным является термин задьница , например, в статье 91: Аже в боярех любо в дружине, то за князя задниця не идеть ; в статье 93: Аже жена сядеть по мужи, <…> а задниця ей мужня не надобе ; в статье 95: Аже будеть сестра в дому, то той заднице не имати (ПРП, с. 118). В лексикографических источниках этот термин толкуется как ‘наследство; legatum’ (Срезн. I, стб. 910), ‘наследство, спор о наследстве’ (CлДРЯ III, с. 300], ‘наследуемое имущество, наследство’ (ТСДЮТ, с. 43). Доминирование этого термина в памятнике проявляется и в употреблении его деривата беззадьница / б 4 задница : в списках Пушкинской группы – О безадници . Аще в боярст 4 и дружини, то за кн 5 з 5 задниц 5 не идеть и
О б 4 задниц 4 . Аже будуть робьи д 4 ти у мужа, то задниц 4 не имати им, но свобода имъ с матерью (ПР I, с. 290, 313) с конкретизирующим значением ‘выморочное имущество’ (ТСДЮТ, с. 16; СлДРЯ I, c. 118).
В списках Музейского вида регулярны замены данного термина терминами ста-токъ , сьстатокъ / сстатокъ / состатокъ, останокъ, остатокъ , которые толкуются как ‘имущество, нажитые ценности; имущество, оставшееся после умершего, наследство’ (СРЯ 28, с. 29–30; 27, с. 169; 13, с. 144–145, 149); ‘остаток кого-л., чего-л.; оставшееся имущество’ (СлДРЯ VI, с. 183–184); ‘имущество; наследство’ (Срезн. III, стб. 509); ‘достаток, состояние’ (ТСДЮТ, с. 103).
Термин добытокъ , использующийся в статье 101 ( Аже жена ворчеться седети по мужи, а ростеряеть добыток и поидеть за мужь, то платити ей все детем ) приводятся в словарях со значениями ‘приобретение, прибыль, доход; имущество, достояние’ (СлДРЯ III, с. 26–27); ‘имущество, имение; добыча’ (Срезн. I, стб. 685).
Термин товаръ в статье 99 об опекунстве: Аже будуть в дому дети мали , <…> а товар дати перед людми; а что срезить товаромь темь ли пригостить, то то ему собе, а истый товар воротить им (ПР I, с. 132) историками права и комментаторами Русской Правды толкуется как ‘имение, добро’ (ПР II, с. 659–664); ‘имущество опекаемых, получаемое опекуном при свидетелях’ (ПРП, с. 182). В общелексическом употреблении слово многозначно: ‘стан; обоз; имущество, добро’ (Срезн. III, стб. 969–970). П.Я. Черных, предполагая возможность раннего его заимствования с Востока или из древнетюркских языков Северного Причерноморья, считает старшим значением на восточнославянской почве ‘стан; лагерь’, а для статьи Русской Правды предполагает значения ‘имущество’ и ‘деньги’ (Черных II, с. 247).
Слово дворъ в общелексическом значении ‘жилище, дом, усадьба’ (Срезн. I, стб. 642–644); ‘место с домом и хозяйственными постройками, усадьба; отдельное хозяйство’ (СлДРЯ II, с. 447–448) в статье 100: А двор без дела отень всяк меншему сынови (ПР I, с. 132) получает терминологическое значение минората, «привилегии младшего сына перед старшими» в наследовании родительского дома (ПР II, с. 665).
Общелексическая многозначность свойственна и слову домъ ‘жилище, здание; хозяйство, домашнее устройство; род; имение, имущество’ (Срезн. I, стб. 699–700); ‘домашнее устройство, хозяйство; хозяйственная единица’ (СлДРЯ III, с. 230), однако в контексте статьи 92: Аже кто умирая разделить дом свои детем, на том же стояти (ПРП, с. 117) очевидно терминологическое употребление в значении ‘имущество, наследство’. Как уточняет в комментарии к статье А.А. Зимин, «“дом” в данном случае означает имущество вообще, а не усадьбу, которая именуется в Пространной Правде “двором”» (ПРП, с. 180).
Таким образом, обозначения имущества как предмета наследования приобретают терминологическое значение в юридическом контексте Русской Правды, сохраняя, однако, в ином употреблении общелексические значения.
Отсутствие жесткой дистрибуции терминов задница и домъ проявляется в их использовании в текстах церковнославянского права, напр., в Мериле Праведном аще ли зак-ωньная часть t сть яко до чтвера д 4 тии -г-юю часть задниц 5 ; в Законе Судном людям аще t сть поручникъ ω соб 4 самъ с 5 твор 5 приимъ строя домъ оyмршаго ти что погубить то возьметь на судищи казнь (СлДРЯ III, с. 300, 230).
Если В.М. Живов, говоря о дистрибуции терминов наследования, сосредоточивался на определении первичного термина, каковым и становится домъ («древнейший русский термин для обозначения имущества (движимого и недвижимого)» [1, с. 196]), то П.П. Цитович дифференцирует не общую семантику терминообозначений наследства, а характер номинации одного и того же понятия: «дом и задница выражают только различные стороны одного и того же понятия – имущества умершего, имущества как целого, universitas. Это имущество, эта целостность со стороны своей принадлежности покойному при его жизни, называется “домом” <…>. Но то же самое имущество <…> со стороны возможности достаться другим через посредство наследования, представляется как нечто оставленное, покинутое позади себя умершим, и поэтому называется задницей, остатком, стат-ком» [11, с. 56–57].
Доля наследства в Русской Правде обозначена термином часть , например, в статье 90: аже будуть дщери у него дома, то даяти часть на не; аже будуть за мужемъ, то не дати им части ; в статье 92: паки ли без ряду умреть, то всем детем, а на самого часть дати души ; в статье 93: Аже жена сядеть по мужи, то на ню часть дати (ПР I, с. 132). А.А. Зимин подчеркивает, что статья 93 «резко различает “задницу”, основное наследуемое имущество, от “части”, выдела известных средств, шедших жене или дочерям (ст. 90) или на помин души (ст. 92)» (ПРП, с. 181).
Как самостоятельное терминообозначе-ние доли наследства существительное часть характерно и для церковнославянских текстов, например, в Уставе Студийском: чьстьныихъ же мyжии t лико ихъ приход 5 ще ч 5 сть сво t го прит 5 ж 5 ния движимаго и недви-жимаго обр 5 д 5 ть своимь люблени t мь (СлДРЯ V, с. 549). Однако если в Русской Правде термин употребляется только в этом значении, то в церковнославянских текстах и для общего обозначения имущества, например, в Законе Судном людем: да аще хощеть дарити ω(т) своeя части … то дарить. до-стоиною частью . t же нар 4 четс 5 полъ дъму. на полу бо дому даеть t му судъ власти (СлДРЯ III, с. 50).
Как показывает анализ, наиболее продуктивны в обозначении завещания дериваты корня *rÌd-. Так, в договоре 911 г. терминологическое значение процесса оформления завещания имеет глагол урядити <именье> ‘устроить, учредить, уладить, распорядиться чем-либо перед смертью, завещать и др.’ (Срезн. III, стб. 1262); ‘распорядиться своим имуществом’ (ТСДЮТ, с. 50); терминообоз-начением оформленного наследства является субстантивированное причастие возьметь уряженое его; непосредственным обозначением завещания – обряжение ‘завещание’ (Срезн. II, стб. 556); ‘завещание, сделанное в устной форме при свидетелях’ (ТСДЮТ, с. 65). Закономерность этих деривационных связей вытекает из глубокого архаизма юридических терминов ряд, рядить, орудие, отсылающего «к мифопоэтической концепции универсаль- ного закона», к одному «из самых кардинальных действий по устроению мира, во всех его аспектах» [2, с. 232]. Как следствие, возникает полисемия слова р5дъ, реализующего и общелексические, и специальные – правовые – значения: ‘строй’, ‘строка’, ‘поселок’, ‘порядок’, ‘черед’, ‘постепенность’, ‘чин’, ‘разряд’, ‘управление, ‘благоустройство, ‘устав, правило’, ‘раскладка’, ‘распоряжение, завещание‘, ‘дело’, ‘суд’, ‘судебный приговор’, ‘переговоры’, ‘договор’, ‘уговор’, ‘работа’, ‘назначение’, ‘наследие’, ‘естество, природа’ и др.’ (Срезн. III, стб. 231–235).
Кроме терминообозначения устного оформления завещания урядити именье , в договоре использован термин <кому> писа-ти <наследити именье> , толкуемый не только как ‘завещать’ (СлДРЯ VI, с. 395), но и как ‘сделать письменное завещание’ (Срезн. II, стб. 936). Аналогично в Рязанской Кормчей 1282 г.: аще и ино вн 4 шнее лице… напишеть насл 4 дника ; п(с)пъ еретикомъ или t линомъ насл 4 ди t пиша да бyдеть прокл 5 тъ (СлДРЯ V, с. 196, 395).
Русская Правда знает только устный вид завещания, передаваемый термином рядъ (в статье 92: паки ли без ряду умреть, то всем детем и в статье 99: аче же и отчим прииметь дети с задницею, то тако же есть ряд ) и терминосочетанием <умреть> без языка (в статье 103: А матерня часть не надобе детем <…> без языка ли умреть, то у кого будеть на дворе была и кто ю кормил, то тому взяти ); в списке Музейско-го вида используется и термин-глагол для обозначения процедуры завещания: аще же и отчимъ приметъ д 4 ти т 4 съ статкомъ, и то такоже есть ряд, яко же ся рядилъ (ПР I, с. 387).
Группу обозначений наследников в договорах составляют термины родства свои , ближьнии, малые / милые ближики , а также описательная конструкция кому будеть писал наследити именье, да наследить , в которой семантической доминантой становится глагольный термин наследити < именье > ‘получить в наследство’ (Срезн. II, стб. 333; СлДРЯ V, с. 195), этимологически определяемый как церковнославянизм, восходящий к κήονομετν , hereditare ‘наследовать, получить в наследство’ (ЭССЯ 23, с. 50).
Термин родства свои ‘родной, родственник’ (Срезн. III, стб. 283–284), ‘близкий, родственник, соплеменник и т. п.’ (СРЯ 23, с. 190) используется и для обозначения наследников. Причем, выводы О.Н. Трубачева указывают на недостаточную обоснованность мнения историков права, дифференцирующих для ранних эпох степень близости свойственного (брачного) и кровного родства: «наличие местоименного корня *s u e- / *s u o- органически связывает термины свойства с древним термином кровного родства и.-е. *s u esor, слав. sestra. <…> Выходит, что очень широкая группа родственников, начиная от кровной сестры и кончая весьма далекими родственниками жены, назывались ‘своими’» [10, с. 90].
Прилагательное ближьнии (прасл. *bližьnъ(jь) ) является производным с суффиксом -ьn- от формы сравнительной степени *bliže . Этимологи, указывая на вторичность формы на -z- , считают значение ‘ближний, близкий человек’, ‘человек в отношении к другим людям’ бесспорной семантической калькой с греч. πλήσιος , а их славянские соответствия, в т. ч. русское, книжными элементами лексики (ЭССЯ 2, с. 124). В статьях договоров 911 г. да возметь ближний убье-наго и 944 г. да возьмуть именье его ближь-нии убьенаго прилагательное получает значение ‘родной, близкий; родственник’ как наследник имущества (СлДРЯ III, с. 230; Срезн. I, стб. 114).
Анализ терминосочетания договора 911 г. малые / милые ближние / ближики / ближники , дискуссионного и в аспекте семантики: см. взаимоисключающие толкования малыи ближики ‘дальние родственники’ (СРЯ 9, с. 22–23); ближник – «ближайший родственник, как правило, наследник первой очереди. См. выражение “ ближники малые ”» (ТСДЮТ, с. 17), и в аспекте ресурсов калькирования, указывает на то, что термин-гапакс не только Повести временных лет, но и всего корпуса древнерусских текстов, цитируемых в лексикографических источниках, имеет варианты малые / милые ближние / ближики , при этом вариант ближники представляет позднее образование. Как представляется, независимо от варианта адъектива оба термина с большой долей вероятности имеют общее значение ‘ближайшие родственники’.
Судя по употреблению компонентов малый / милый в сочетании с терминами родства в древнерусских текстах, не находит подтверждения мнение о семантической «пустоте» адъектива в составе исследуемых термино-сочетаний; это едва ли искусственные образования, созданные переводчиком (см. подробнее [11]). Вероятно, реализован уже имевшийся в языке ресурс – устойчивое употребление адъективов милый и малый (о возможности синонимии мило ‘близкий, родной’ и малая чадь ‘жены и малолетние дети’ см: СлДРЯ IV, с. 534; СРЯ 9, с. 22–23) в сочетаниях с терминами родства милъ(-ыи),-а(-ая) сынъ, братъ, отець, дочерь и малая чадь , отраженное в различных памятниках письменности и фольклорных источниках. Косвенным указанием на русские терминологические ресурсы в договорах становится церковнославянский вариант свои люблении в Уставе Студийском: чьстьныихъ же моужии t лико ихъ приход 5 ще ч 5 сть сво t го прит 5 ж 5 ния движимаго и недвижимаго обр 5 д 5 ть сво-имь люблени t мь (СлДРЯ V, с. 549).
В Русской Правде для обозначения наследников зафиксированы термины родства разделить дом свои детем , на жену будеть възложил, но оже не будеть сынов, а дче-ри возмуть или описательные конструкции с этими терминами меншему сынови ; двою мужю дети, а одиное матери .
Деривационно связанным с термином договоров ближьнии является терминообоз-начение опекунов несовершеннолетних детей в статье 99: кто им ближии будеть, тому же дати на руце и с добыткомъ и с до-момь, донеле же возмогуть (ПР I, с. 132), имеющее в разных списках варианты ближ-ни / ближнии / ближеи / ближники / ближе будеть . А.А. Зимин относит содержание статьи к славянской правовой архаике именно на том основании, что в ней «признается особая роль “ближних” (т. е. ближайших родичей) в качестве опекунов малолетних детей, а не их матери», и отсылает к прецедентному тексту: «ср. о “малых ближиках” в договоре 911 г. Руси с Византией» (ПРП, с. 182). Соответствия обнаруживаются и в церковнославянском законодательстве, напр., сродницы призываютьс 5 в насл 4 дьe иже степенемь yбо ближе (Кормчая Рязанская);
яко не достоить еп(с)пy братy ли снови ли иномy ближиц 4 (Кормчая Ефремовская), ли не будеть братья ближнии насл 4 ду-ють ли ни ближникъ будеть eсть же жена yмершагω (Мерило Праведное) (СлДРЯ III, с. 229, 230).
Итак, соответствия в употреблении и деривации терминов наследственного права в договорах Руси с Византией и Русской Правде, использование ресурсов обеих систем в церковнославянских правовых текстах XI–XIV вв. указывают на определенное взаимодействие этих систем. Точно так же, как «переложение греческой Эклоги на церковнославянский язык и включение ее в поле русской духовной культуры сопровождалось некоторыми изменениями не только в структуре данного правового памятника, но и в его содержании» [8, с. 25], в терминосистему церковнославянских правовых памятников включались некоторые термины Русской Правды, а в переводе некоторых терминов наследственного права договоров отражались ресурсы языка русского права.
Список литературы Термины наследственного права в договорах русских с греками и Русской Правде: к проблеме функционально-семантических и деривационных отношений
- Живов, В. М. История русского права как лингвосемиотическая проблема/В. М. Живов//Живов, В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. -М.: Яз. слав. культуры, 2002. -С. 187-290.
- Иванов, Вяч. Вс. О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов)/Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров//Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. -М.: Наука, 1975. -С. 211-240.
- Киржаева, В. П. Историческая терминография русского языка как предмет междисциплинарной разработки/В. П. Киржаева//Юридическая лексика русского языка XI-XVII веков: материалы к словарю-справочнику. -Вып. 1. -Саранск: Изд-во Морд. ун-та, 2014. -С. 6-14.
- Малингуди, Я. Терминологическая лексика русско-византийских договоров Х в./Я. Малингуди//Славяне и их соседи. -Вып. 6. -М.: Индрик, 1996. -С. 61-68.
- Момотов, В. В. Формирование русского средневекового права в IX-XIV вв./В. В. Момотов. -М.: Зерцало-М, 2003. -416 с.
- Обнорский, С. П. Язык договоров русских с греками/С. П. Обнорский//Обнорский, С. П. Избранные работы по русскому языку. -М.: Просвещение, 1960. -С. 99-119.
- Осовский, О. Е. Древнерусский юридический текст в лингвистических и смежных гуманитарных исследованиях последних десятилетий/О. Е. Осовский//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2014. -№ 1 (31), ч. 2. -С. 146-150.
- Томсинов, В. А. Юриспруденция Древней Руси и правовая культура Византии/В. А. Томсинов//Вестник Московского университета. Серия 11, Право. -2009. -№ 4. -С. 3-26.
- Трифонов, С. Г. Правовое регулирование отношений наследования в Юго-Западной Руси: X-XVIII вв.: автореф. дис. … канд. юрид. наук/Трифонов Сергей Геннадиевич. -М., 2009. -22 с.
- Трубачев, О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя/О. Н. Трубачев. -М.: Изд-во АН СССР, 1959. -212 с.
- Цитович, П. П. Исходные моменты в истории русского права наследования/П. П. Цитович. -Харьков: Унив. тип., 1870. -173 с.