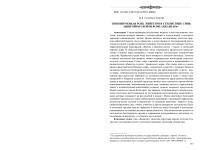Типизирующая роль эпитетов в стилистике синьцзян-ойратской версии "Джангара"
Автор: Селеева Цаган Бадмаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальному вопросу о роли постоянных эпитетов, значение которых связано с типологизацией и идеализацией, в контексте традиции национальных эпосов. Целью является исследование эпитетов синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» с точки зрения их типизирующей роли в этнокультурной и мифоэпической традициях. Рассмотрены постоянные эпитеты, характеризующие персонажей, объекты и явления своего / чужого в эпической картине мира. В синьцзян-ойратском эпосе сохранились архаические представления о «чужом» мире, связанные с «иным миром», где властвуют демонические существа. Вражеская страна чаще всего именуется эпитетом антипода. Эпитеты в именах антиподов, как правило, имеют устрашающую коннотацию свирепый, могучий, подавляющий. Слово «хар» «черный» используется в наименовании топонимических объектов «чужого / вражеского мира». Оно также дается в номинации представителей Нижнего мира, хтонических существ и чудовищ. Имена и прозвища эпических богатырей-антагонистов, как представителей «чужого / иного мира», сопровождаются индивидуальными характеризующими эпитетами, где черный цвет выступает маркером их демонической мощи и силы, а также злых намерений и коварной сущности. Эпическая ономастика представлена именами героев и персонажей, в которой структура полных имен эпических героев обычно многокомпонентная, включающая личное имя, название титула и определение-эпитет с положительной коннотацией (славный, великий, свирепый, прекрасный). Имена эпических героев-богатырей, как правило, сопровождаются индивидуальными эпитетами, выступающими их постоянными качественными характеристиками, которые указывают на род занятий и возраст. Имена некоторых богатырей сохраняют архаические черты добуддийских верований и шаманской мифологии, тотемистических культов и происходят от названий животных, зверей и птиц, символизирующих силу, отвагу, ловкость и другие рыцарские достоинства. Культ и почитание предков нашли отражение в эпитетах имен богатырей и антиподов, указывающих на семейно-родовую принадлежность. Исключительная ценность и достоинство богатырского оружия и снаряжения подчеркиваются эпитетами, отсылающими к материалу, из которого оно сделано.
Эпос «Джангар», синьцзян-ойратская версия, поэтика, стилистика, постоянный эпитет, эпическая традиция, эпическая ономастика
Короткий адрес: https://sciup.org/149136565
IDR: 149136565 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00026
Текст научной статьи Типизирующая роль эпитетов в стилистике синьцзян-ойратской версии "Джангара"
Эпитет является древнейшим стилистическим приемом, определяющим явление или предмет, служащим для красочности и образности, придания эмоционального фона повествованию. В современной стилистике «эпитет» имеет узкое и широкое значение. Эпитет в традиционном узком значении поэтического тропа со временем сменился индивидуальным, характеризующим поэтическим определением. В широком значении эпитет понимают именно как определение, как один из приемов поэтического
стиля.
Теория эпитета в литературе и фольклоре разрабатывалась российскими учеными А.Н. Веселовским, А.А. Потебней, Б.В. Томашевским, В.М. Жирмунским, И.Р. Гальпериным и др.
А.Н. Веселовский в своей известной работе «Из истории эпитета» дает широкое культурологическое и историческое осмысление этого понятия -одностороннее определение слова, либо подновляющееся его нарицательное значение, либо усиливающее, подчеркивающее какое-нибудь характерное, выдающееся качество предмета [Веселовский 1989, 59].
Затронутые в данном исследовании аспекты изучения фольклорного эпитета являются актуальными и для современных исследователей. Так, ученый отмечает характерный для эпоса и народной поэзии признак типи-чески-условного и сословного миросозерцания и стиля (отразившегося, в частности, в условных типах красоты, героизма и т.д.) [Веселовский 1989, 64-65]. Типически-условный признак с обилием повторяющихся эпитетов и общих мест А.Н. Веселовский связывает с особым мнемоническим приемом эпики, - «уже не творящейся, а повторяющейся или воспевающей и новое, но в старых формах» [Веселовский 1989, 65].
Эпитет в теории Б.В. Томашевского имеет узкое значение - поэтическое определение, не имеющее функцию выделения явления из иных ему подобных и не вводящее нового признака. Поэтическое определение повторяет признак, заключающийся в самом определяемом слове, его цель -обратить внимание на данный признак или выразить эмоциональное отношение говорящего к предмету [Томашевский 2001, 57].
В.М. Жирмунский рассматривает эпитет в узком смысле как поэтическое определение, обозначающее типический, идеальный признак понятия. В этом ограничении ученый видел первоначальное значение, понимаемое как «украшающий эпитет», обозначающий типический (идеальный) признак определяемого понятия [Жирмунский 1992, 55]. Рассуждая об узком и широком значениях эпитета, исследователь заключает, что в первом случае мы имеем дело с определением, укоренившимся, канонизованным литературной традицией, во втором случае - с сочетанием новым, индивидуальным. С этим связано и другое, более глубокое различие: в первой группе определение обозначает типический и как бы постоянный признак определяемого понятия, во второй - признак окказиональный, улавливающий один из частных аспектов явления [Жирмунский 1992: 56].
Устная традиция оперирует фондом канонизированных и традиционных определений, фиксирующих идеальный и типический признак образа или предмета. Эпическому стилю свойственно обилие постоянных эпитетов, придающих повествованию своеобразный украшающий колорит, а также характер типологизации и издеализации. В этой связи актуально осмысление эпитета в контексте традиции национальных эпосов.
Целью является исследование эпитетов синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» [Джангар 2008] с точки зрения их типизирующей роли в контексте этнокультурной и мифоэпической традиций.
Образы «своего мира» - страны Бумбы - и противопоставленного ему неизведанного пространства являются ключевыми элементами дуального эпического мира, представляющими универсальную бинарную оппозицию «свой-чужой». Архаические представления о «чужом мире» в сказочно-эпической традиции связаны с иным миром. В синьцзян-ой-ратском эпосе «чужой мир» обозначается эпитетом чужой и выражением могучих шулмусов страна - хэр hasp ('чужая земля’), хэрин дерен орн ('чужеземные четыре страны’) кучте шулмин орн ('могучих шулмусов страна’). Вражеская страна чаще всего маркируется эпитетом антипода: Эср Мацксин орн ('Необузданного Мангаса страна’), Догшн Хар Кинсин нутг ('Свирепого Хара Киняса страна’), Догшн Мацксин орн ('Свирепого Мангаса страна’), ЭэхМацксин орн ('Устрашающего Мангаса страна’), Ьаслцгт Мацксин орн ('Печального Мангаса страна’).
В эпосе «Джангар» находят отражение мифологические представления о трехмирии - верхнем, среднем и нижнем мирах. Верхний мир является обителью божеств ('бурхни таралц’) и наделяется эпитетами высший, небесный-, деед тецгрин орн ('высший небесный мир’). В более архаическом виде верхний мир имеет семь слоев - деедин додан орн ('высшие семь царств’).
Вера в божественное происхождение вождей и правителей и связь их с верхним миром находит отражение во многих мифологических традициях, в том числе в эпосе «Джангар». Так, применительно к Джангару используется выражение тецгр йогурта ('небесного происхождения’). Небесное происхождение, по всей вероятности, связано с обладанием правителем харизмой: «Выполнение правителем функции, сакрализующей и гармонизирующей космос и социум, связано через обладание харизмой (stride) с Высшим законом torii» [Крадин, Скрынникова 2006, 298]. То, что Джангар наделен божественной субстанцией, - харизмой, подтверждает ряд эпизодов, повествующих о богатырях, которые оставили свои владения, многочисленных своих подданных и последовали за Джангаром, уверовав, что ему суждено стать правителем и «владеть всем, что под солнцем». Считалось, что покоренные правители, присоединяясь к более сильному, отдавали собственную силу и умножали его харизму. В подтверждение сказанного обратимся к текстам «Джангара», описывающим эпизод принятия ханом-антагонистом подданства Джангара: Зан-тайджи хан преподносит Джангару священно-белый хадак и произносит заверение в том, что жизненную силу свою он отдает великому Джангару и шести тысячам двенадцати богатырям, а жизнь свою в распоряжение Алому Хонгору Благородному. После этого на правой щеке Зан тайджи хана было поставлено красное бумбайское клеймо, а заверение в верности подкреплено троекратным поклонением Джангару с обещанием тысячу и один год нести повинности - сроком на сто лет быть подданными Джангар хана и в течение тысячи лет выплачивать ему дань. Таким образом, процветание эпического социума зависело от личных качеств правителя и его божественной харизмы, дарованной ему свыше, обладающей охранительной

и регулирующей функцией - сохранения жизни самого суверена и благоденствия державы под его властью.
Божественное происхождение в эпосе имеет также конь правителя Джангара. Так, применительно к коню Аранзалу Зээрдэ используется эпитет божественный - бурхн Зеерд ('божественный Зээрдэ’), что восходит к архаическим сказочно-эпическим сюжетам, где конь и снаряжение герою-богатырю вручаются свыше заячи-дарителем. Небесного происхождения может быть и антипод - Тенгрин Того Бус ('Небесный Тегя Бюс’).
Нижний мир изображен как подземелье дор hasp ('нижняя земля’), которое населено различными хтоническими существами (мусами, ман-гусами, шулмусами и др.); там находится чистилище-ад. Встречается в эпосе и довольно редкое для ойратского фольклора существо лус - охтр кок лус (куцехвостый синий лус). Для архаического эпоса типична также мифологическая фигура «матери» или «хозяйки» демонических богатырей - старой шаманки [Пропп 2000, 665].
В архаической эпике обычно присутствует в значительной мере мифологическая дуальная система постоянно враждующих племен - своего, человеческого, и чужого, демонического (при этом на втором плане в эпо-сах могут фигурировать и другие мифические миры и племена) [Мелетин-ский 2000, 664]. В архаизированной эпике синьцзянских ойрат преобладают сюжеты о борьбе богатырей с мангусом / мангасом. Выражение оор холын мацИсмуд ('ближних и дальних [сторон] мангасы’) говорит об их большом количестве. По всей вероятности, это связано с древними представлениями о том, что персонажи низшей мифологии вмешиваются в человеческую жизнь, встречаются с людьми, превращаются в людей и т.п., поэтому во многих традициях они имеют преобладающее значение в сравнении с божествами, действующими преимущественно в мифологическое время первотворения [Иванов 2000, 216]. Мощь и сила многоголового мангаса зависит от количества голов, представленного соответствующим эпитетом: пятнадцатиголовый мангас, двадцатипятиголовый мангас, тридцатипятиголовый мангас.
Следует отметить и младшее поколение мангуса / мангаса, которое оказывается сильнее старшего. Согласно тууль-улигеру, каждое новое младшее поколение героев (и их антагонистов) сильнее предыдущего (т.е. герой-младенец сильнее героя-отца, отпрыск мангуса сильнее самого мангуса) [Кичиков 1997, 84]. В сюжете «О победе Алого Хонгора-льва Благородного над тремя братьями-мангусами» синьцзян-ойратской версии повествуется о герое Хонгоре, прибывшем в страну мангасов и встретившем там беременную ханшу мангасов. Хонгор расправляется с ней, а затем вступает в поединок с ее сыном, вызволенным из утробы матери. После уничтожения беременной ханши, как правило, следует уничтожить и мла-денца-мангаса, но иногда он обладает силой и мощью, равной взрослому богатырю, и сам вступает в сражение с ним. Трудная победа богатыря над младенцем-мангасом объясняется тем, что младенец не успел испробовать материнского молозива, которое дало бы ему сил одержать победу над ге- роем Хонгором.
Персонаж актуальной демонологии шулмас способен принимать облик и женщин, и мужчин, те. обладает способностью к оборотничеству. У калмыков шулмасы наделяются как зооморфными чертами (козлиные ноги или борода, хвост верблюда вместо косы, голова лягушки), так и антропоморфными (принимают облик прекрасной девушки, угощающей путников отравленным питьем) [Неклюдов 2000, 647]. Переходную ступень от животного к человеку составляет человек с ногой животного. Всякого рода эльбы, карлики, демоны, черти обладают звериными конечностями [Пропп 2000, 52, 59, 60]. Так, в сказочном и эпическом фольклоре калмыков представлен образ кособокой старухи с медным хоботом и на косульих ногах.
В Джангариаде, по мнению Б.Я. Владимирцова, отражается гораздо более сложная кочевая жизнь, жизнь не только кочевника, но кочевого государства [Владимирцов 2003, 68]. Кочевое государство лексически обозначается общемонгольскими номенклатурными терминами - орон ('страна’) и нутуг ('государство’). Эпоха «Джангара» - это период ранних форм кочевого феодализма, а ускорение процесса феодализации было связано с образованием сильного кочевого государства, когда на арену истории на недосягаемой высоте богатства и власти выдвигается один княжеский род и собирает свой «нутуг» (собственно, государство). Кочевые аристократы владели крупными уделами - родовыми кочевьями «нутугами». Эпос вполне четко говорит, что сайды, нойоны обладали наследственными уделами-вотчинами, которые состояли из подданных (алвт) с их скотом. Земля-пастбище имеет своего хозяина «эзэна». Земля (нутуг) находилась в монопольном владении кочевой аристократии - ханов, сайдов, нойонов, которые выбирали себе лучшие кочевья [Эрдниева 2004, 405].
Встречаем в эпосе упоминание о еще одном кочевом образовании аиле - байн ээл ('богатый аил’). Известно, что в XI XII вв. монголы кочевали изолированно аилами. Объяснялось это тем, что богатому скотом кочевнику и особенно коневоду неудобно кочевать в большом обществе, заботы о своих стадах и табунах заставляют его искать более привольного существования отдельным аилом. Из скопления аилов, те. кочевых стоянок или кочевых дворов, состоявших из отдельных юрт и телег-кибиток, образовывалось кочевье-стойбище, насчитывавшее несколько сотен юрт [Владимирцов 2002, 332-333].
В качестве внутреннего пространства кочевого оседлого образования в синьцзян-ойратском «Джангаре» упоминается цахар, характеризуемый эпитетами заполненный и прекрасный - дуурц сээхн цахр (заполненный прекрасный цахар). Словом «сахаг» синьцзянские торгуты обозначали юрты сановников, зайсангов, расположенных перед ставками ханов в форме круга, из 20-30 и более юрт зайсангов. В своем реальном значении слово «сахаг» до настоящего времени употребляется ойратами Синьцзяна, преимущественно торгутами Баянгола [Норбу 2004, 331]. Ш. Норбу предполагает, что в период «малых ханов» рядом со ставкой монгольского хана находились юрты сановников и телохранителей [Норбу 2004, 333]. У калмыков цахаром называли - крупное (более 500 жителей) поселение челяди хана, сайда или другого знатного сановника, обслуживавшее хурул или ставку хана [Эрдниева 2004, 401].
Эпическая ономастика представлена именами героев и персонажей с разным социальным статусом. Центральный персонаж в рассматриваемых традициях - ковун (молодец), баатр (богатырь), хан (государь) и т.д. Эти обозначения входят в номинацию персонажа и не могут быть отделены от его имени [Неклюдов 2019, 87]. Структура полных имен эпических героев обычно бывает многокомпонентной. В их состав могут входить личное имя, название титула и определение-эпитет с положительной коннотацией (славный, великий, свирепый, прекрасный): алдр нойн богд Жрцйр ('славный нойон богдо Джангар’ уДогиш Ширк хан ('Свирепый Ширки хан’); Дуувр ¥зц алдр хан ('Смелый Великий Узюнг хан’); Тацгсг Бумбхан ('Прекрасный Бумба хан’).
Прозвища центрального персонажа (хан, баатр), по-видимому связаны с представлениями о монгольском национальном героическом характере. Выражающие их имена, прозвища, титулы, эпитеты говорят о внешнем облике и характере персонажа, его возрасте, но главным образом - о статусе и имущественном положении [Неклюдов 2019, 82]. Вне рамок устного эпоса данная номенклатура представлена в древнейших тюркских и монгольских памятниках; многие из подобных обозначений функционируют у монголов XII XIII вв. в общественном быту и социально-иерархической системе как эпитетные (а не родовые) наименования предводителей аристократических родов, которые чем-либо (ловкостью, силой, богатством) превосходят других [Гребнев I960, 46]. Титул хан в эпосе «Джангар» отражает и социально-иерархический статус, исторически свойственный более позднему феодальному обществу.
Имена эпических героев-богатырей, как правило, сопровождаются индивидуальными эпитетами, выступающими их постоянными качественными характеристиками и указывающими на род занятий и возраст: келмрч Ке Ж,илйн ('Искусный Джилган сказитель’), Эрун ЦаИан тушмл ('Священно-Белый сановник’), Нээмн наста Нэрбат ('Восьмилетний Нярбат’). Очень часто именам сопутствуют эпитетные прозвища, характеризующие их: Кунд hapma Савр ('Тяжелорукий Савар’), Бек Моцгн ШигшрИ ('Силач Серебряные Розги’), мерч Бор Мацна ('конюший Серый Лоб’), Байн Куцкэн Алтн Чееж ('Богатая Прорицательная Золотая Грудь’). В имени мудреца и ясновидца Алтана Чееджи обнаруживается след архаического мифа о герое, родившемся с золотой грудью. Прозвища имеют и антиподы: Дош Мацна ('Широкий Лоб’), Хату Хар Сацср ('Твердая Черная Вселенная’), Мацйсин Бургд (’Мангасов Беркут'), Мацйсин Кок Мацна (’Мантасов Синий Лоб'), Хаэ^р Гуэ^р Соя ('Кривой Клык’), Алтн Соя ('Золотой Клык’). Анимистический взгляд дает возможность переносить свойство одного явления на другое.
Довольно часто в синьцзян-ойратской версии антипод имеет прозви- ще Коса-. Хар Тевгт хан ('Черная Коса хан’), Алдр Хар Кукл ('Славная Черная Коса’), Эргу Мецгн Тевг хан (Скрученная Серебряная Коса). По всей вероятности, это связано с древними представлениями о том, что волосы в монгольской культуре являются маркером сакральности и символом жизненной силы. У калмыков также прослеживается непосредственная связь волос с жизненной силой [Бакаева 2003, 158]. После сорока лет мужчина, живший в середине XIX в., отпускал косу. Все мужчины бреют голову, оставляя только маковку, волосы заплетают в косу, а знатные в две или три косы [Паллас 1809, 460].
Имена некоторых богатырей сохраняют архаические черты добуд-дийских верований и шаманской мифологии, тотемистических культов и происходят от названий животных, зверей и птиц, символизирующих силу, отвагу, ловкость и другие рыцарские достоинства: Арслцгин Арг Улан Xonhp (Львиный Благородный Алый Хонгор), Кумни начн Кунд Карта Савр (Сокол среди людей Тяжелорукий Савар), Салькн Тавг ба-атр (богатырь Ветренная Ступня), Хар Бодц (Черный Вепрь).
Образ воина и демонического существа связан с божеством иранской мифологии Веретрагне, которое почиталось как божество войны и победы и могло воплощаться в виде ветра, кабана, верблюда, коня, быка, барана, козла, коршуна или сокола и в образе прекрасного воина [Бакаева 2003, 229]. Вепрь, кабан, во многих мифологиях служит символом боевой мощи и плодородия [Иванов 2000, 232].
Культ и почитание предков нашли отражение в эпитетах имен богатырей и антиподов, указывающих на семейно-родовую принадлежность: Хоцкрин кавун Хошун Улан (сын Хонгора Хошун Улан), Жрцкрин Арве Хар кавун ([сын] Джангара Арве Хара); Заят алдр хаани кавун Бурхн Бор Мацна (Прославленного хана Заяты сын Бурхн Боро Мангна), Хавхин кавун Хар Тевг (сын Хавхи Хара Тевег).
Эпитеты в именах антиподов, как правило, имеют устрашающую коннотацию свирепый, могучий, подавляющий: Эср Хар мацИс (а) ('Необузданный Черный мангас’); Догшн Хар мацкс ('Свирепый Черный мангас’), Ээх Догшн Мацна ('Устрашающе-Свирепый Мангна’), Догшн Хар Сенцкэ ('Свирепый Черный Сонякя’), Догшн Дарцх ('Свирепый Подавляющий’). Догшн Шар Гургу ('Свирепый Шара Гюргю’), Куч иктэ Курмн (Могучий Кюрмен),
Черный цвет в культуре монгольских народов, являясь антиподом белого, несет в себе различные коннотации, чаще негативные: «Если с белым связано позитивное начало в окружающем мире (все доброе, светлое, счастливое, сакральное), то с черным все негативное (злое, темное, жестокое, несчастливое, профанное)» [Жуковская 2002, 203].
В эпическом тексте эпитет черный ('хар’) передает как отрицательную, так и положительную семантику и символику. Слово «хар» «черный» используется в наименовании топонимических объектов «чужого / вражеского мира»: ондр Харуул ('высокая Черная гора’); оргнХар дала ('широкий Черный океан’). Оно также дается в номинации представите- лей Нижнего мира, хтонических существ и чудовищ: эр хар шулм (’черный шулмус’), хар мацкс ('черный мангас’).
Имена и прозвища эпических богатырей-антагонистов как представителей «чужого / иного мира» сопровождаются индивидуальными характеризующими эпитетами, где черный цвет выступает маркером их демонической мощи и силы, а также злых намерений и коварной сущности: Эср Хар мацкс ('Необузданный Черный мангас’); Догшн Хар мацкс ('Свирепый Черный мангас’), Хату Хар Сацср (Твердая Черная Вселенная), Хар Тевгт хан ('Черная Коса хан’), Алдр Хар Кукл ( Славная Черная Коса’).
В героическом эпосе эпитеты служат характеристикой достоинств эпических персонажей, явлений и предметов эпического мира: шалдг олн баатрмуд ('сражающиеся многочисленные богатыри’), эрк тушмл ('главный сановник’), урн дархн ('искусный кузнец’), кудр хар мерчнь ('здоровый смуглый конюший’), сээхн куукн ('красивая девушка’), цецн куукн ('мудрая девушка’), сэн залу ('хороший мужчина’), хар улан залу ('смуглый мужчина’), хар курц чирэ ('темно-коричневое лицо’), балвкр улан альхн ('широкая красная ладонь’), гумбин улан урл ('пухлые красные губы’), чиндкн цакан сахл ('белые, как у кролика, усы’), ту Ил хар нуднь ('черные, словно у телка, глаза’); тацгсгхар нуднь ('прекрасные черные глаза’), кек чолун зуркн ('синее каменное сердце’).
Цветовые эпитеты в эпосе довольно часто используются при описании масти коня или животного: алг бук (пестрый буйвол), кек цар (сивый вол), алг бук-марл (пегий буйвол-марал), мацхн шар темэн (бело-желтый верблюд), мацхн шар ат (бело-желтый верблюд-кастрат), шарк адун (соловый табун), сээхн курц адун (прекрасный темно-рыжий табун), хар курц адун (темно-рыжий табун), хар буурл адун (черно-чалый табун), хоцкр шарк мерн (саврасо-соловый конь), кер цоохр мерн (пего-гнедой конь), алтн шарк мерн (золотисто-соловый конь), курц мерн (темно-рыжий конь), бар шар-цоохр мерн (желто-пестрый, каку барса, [окрас] коня), бар шар-цоохр агт (желто-пестрый, подобно барсу, рысак), одн саарл мерн (пего-пепельный конь), хурдн хар мерн (быстрый вороной конь), кек буурл (сиво-чалый), хар буурл мерн (черно-чалый конь), хар мерн (вороной конь), ут хар кулг (длинный вороной скакун), кек калзн кулг (сивый с лысиной скакун), октр шар-цоохр кулг (куцехвостый желто-пестрый скакун).
Конь Джангара Арнзл Зеерд (Богатырский Рыжко) имел рыжий окрас. Исследователи тюрко-монгольского эпоса, отмечая тесную связь лошади с военным делом, рассматривают красную масть как атрибут боевого коня [Липец 1984, 100].
Исключительная ценность и достоинство богатырского оружия и снаряжения подчеркиваются эпитетами, указывающими на материал, из которого оно сделано: харка саадг (сосновый лук), зандн арм (сандаловое копье), кудр зандн арм (большое сандаловое копье), ут зандн арм (длинное сандаловое копье), кунд зандн арм (тяжелое сандаловое копье), зандн эмэл (сандаловое седло). Чаще всего используется дерево сандал, относящееся к магическим, священным деревьям, символизирующим счастье, благоденствие и нетленность жизни.
В синьцзян-ойратском эпосе сохранились архаические представления о «чужом» мире, и связаны они с «иным миром», где властвуют демонические существа. Вражеская страна чаще всего именуется эпитетом, закрепленным за антиподом. Эпитеты в именах антиподов, как правило, имеют устрашающую коннотацию: свирепый, могучий, подавляющий. Слово «хар» «черный» используется в наименовании топонимических объектов «чужого / вражеского мира». Оно также дается в номинации представителей Нижнего мира, хтонических существ и чудовищ. Имена и прозвища эпических богатырей-антагонистов в качестве представителей «чужого / иного мира» сопровождаются индивидуальными характеризующими эпитетами, где черный цвет выступает маркером их демонической мощи и силы, а также злых намерений и коварства. Структура полных имен героев в эпической ономастике обычно многокомпонентна, включает личное имя, название титула и определение-эпитет с положительной коннотацией ^славный, великий, свирепый, прекрасный^. Имена эпических героев-богатырей, как правило, сопровождаются индивидуальными эпитетами, выступающими их постоянными качественными характеристиками и указывающими на род занятий и возраст. Имена некоторых богатырей сохраняют архаические черты добуддийских верований и шаманской мифологии, тотемистических культов и происходят от названий животных, зверей и птиц, символизирующих силу, отвагу, ловкость и другие рыцарские достоинства. Культ и почитание предков нашли отражение в эпитетах имен богатырей и антиподов, указывающих на семейно-родовую принадлежность.
Список литературы Типизирующая роль эпитетов в стилистике синьцзян-ойратской версии "Джангара"
- Бакаева Э.П. Добуддийские верования калмыков. Элиста: Джангар, 2003. 358 с.
- Веселовский А.Н. Из истории эпитета // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. С. 59-75.
- Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов / сост. Г.И. Слесарчук. М.: Восточная литература, 2002. 557 с.
- Владимирцов Б.Я. Работы по литературе монгольских народов / сост. Г.И. Слесарчук, А.Д. Цендина. М.: Восточная литература, 2003. 608 с.
- Гребнев Л.В. Тувинский героический эпос. (Опыт историко-этнографиче-ского анализа). М.: Издательство восточной литературы, 1960. 148 с.
- Джангар. Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов: в 3 т. Т. 3. Элиста: Джангар, 2008. 460 с.
- Жирмунский В.М. К вопросу об эпитете // Памяти В.Н. Сакурина. М.: Наука, 1992. С. 52-60.
- Жуковская Н.Л. Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Символика. М.: Восточная литература, 2002. 274 с.
- Иванов В.В. Вепрь // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. Т. 1. А-К. М.: Большая Российская энциклопедия; Олимп, 2000. С. 232-233.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. М.: Восточная литература, 1997. 319 с.
- Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана. М.: Восточная литература, 2006. 557 с.
- Липец Р.С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984. 264 с.
- Мелетинский Е.М. Герой // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. Т. 1. А-К. М.: Большая Российская энциклопедия; Олимп, 2000. С. 296-297.
- Неклюдов С.Ю. Ойрат-калмыцкая мифология // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. Т. 2. К-Я. М.: Большая Российская энциклопедия; Олимп, 2000. С. 247-248.
- Неклюдов С.Ю. Фольклорный ландшафт Монголии. Эпос книжный и устный. М.: Индрик, 2019. 590 с.
- Норбу Ш. О значении слова «caxar» в «Джангаре» и его связи с возникновением эпоса // «Джангар» и проблемы эпического творчества. Элиста: Джангар, 2004. С. 331-334.
- Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект-пресс, 2001. 331 с.
- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. СПб.: Императорская Академия наук, 1809. 657, 116 с.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. ред. И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2000. 334 с.
- Эрдниева К.О. «Джангар» как художественный образ кочевой цивилизации // «Джангар» и проблемы эпического творчества. Элиста: Джангар, 2004. С. 398-407.