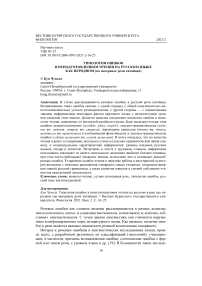Типология ошибок в неподготовленном чтении на русском языке как неродном (на материале речи китайцев)
Автор: Кун Чунься
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются речевые ошибки в русской речи китайцев. Возникновение таких ошибок связано, с одной стороны, с общей спонтанностью (неподготовленностью) устного речепорождения, с другой стороны - с ограниченным знанием информантами некоторых фактов неродного языка, с недостаточным уровнем владения этим языком. Делается попытка построения типологии ошибок в монологах чтения, записанных от носителей китайского языка. Было выделено четыре типа ошибок: акцентологические (полдЕнь, рЕка, сверхУ), лексико-грамматические (надевал вм. надевая, стираю вм. стирала), порождение квазислов (девяча вм. давеча, предтосла вм. предстояла) и контаминация фонетических и лексико-грамматических ошибок (слЕпая музыкант вм. слепой музыкант). В итоге оказалось, что на качество чтения влияют и содержание исходного стимула (лексико-грамматический набор единиц), и индивидуальные характеристики информантов: уровень владения русским языком, гендер и психотип. Встречаясь в тексте с трудными словами, информанты неосознанно извлекают из своего ментального лексикона наиболее близкие единицы, при этом часто срабатывает механизм замены, вследствие чего и возникают разнообразные ошибки. Устранение ошибок чтения в практике работы в иностранной аудитории возможно с помощью расширения словарного запаса учащихся, совершенствования знаний русской грамматики, а также развития навыков и умений собственно чтения как вида речевой деятельности.
Монолог-чтение, устная спонтанная речь, типология ошибок, русский язык как иностранный
Короткий адрес: https://sciup.org/148323748
IDR: 148323748 | УДК: 81-25 | DOI: 10.18101/2686-7095-2021-2-16-25
Текст научной статьи Типология ошибок в неподготовленном чтении на русском языке как неродном (на материале речи китайцев)
Кун Чунься. Типология ошибок в неподготовленном чтении на русском языке как неродном (на материале речи китайцев) // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. Вып. 2. С. 16–25.
Речевые ошибки как сложное явление рассматриваются в разных аспектах: психологическом, психо- и социолингвистическом, когнитивном и, конечно, собственно лингвистическом. С точки зрения лингвистики они считаются нарушением кодифицированных норм литературного языка. Как правило, наличие ошибок в речи является важным показателем речевой компетенции говорящего.
Интерес к речевым ошибкам в лингвистических исследованиях связан, прежде всего, с разработкой различных их классификаций (типологий), учитывающих, в частности, причины возникновения ошибки, соотношение ошибки с формой или типом речи, с уровнем языка и др. [19]. В большинстве таких исследо- ваний анализируются ошибки в речи носителей языка с целью осмысления причин их возникновения и их преодоления.
Однако изучение ошибок в русской речи иностранцев, в нашем случае — в неподготовленном чтении китайцев, представляет собой не менее важную задачу лингводидактики и практического преподавания русского языка как иностранного. Такие ошибки чтения на русском как неродном языке заслуживают рассмотрения с разных сторон.
При рассмотрении разновидностей ошибок М. Р. Львов в одну группу объединяет ошибки чтения с ошибками орфографическими, пунктуационными, каллиграфическими, а также с опечатками и называет неправильное чтение слов неязыковой ошибкой [17]. Однако с такой позицией трудно согласиться. Неподготовленное чтение, помимо высокой степени лингвистической мотивированности исходным текстом, обладает и определенной степенью спонтанности, о чем, в частности, свидетельствует наличие в нем разнообразных примет спонтанности , в том числе ошибок разного рода [13]. В случае чтения на неродном языке таких примет наблюдается даже больше, чем в чтении на родном языке. Кроме того, чтение как рецептивный вид речевой деятельности является многоуровневой задачей, требующей от говорящего (читающего) больших усилий для одновременного распознавания внешней формы (букв) и понимания текста. Другими словами, навыки и умения чтения, уровень языковой компетенции (уровень владения иностранным языком) оказывают существенное влияние на качество продукта чтения.
Г. А. Тезекбаева справедливо отмечает необходимость различать две группы ошибок: первая связана с «незнанием некоторого аспекта языковой системы», т. е. с ограниченным знанием языка в целом, а вторая — с «временным ослаблением внимания и контроля над речью» в ходе речепорождения, т. е. со спонтанной природой устной речи [23, с. 77]. На наш взгляд, вторая группа, прежде всего, связана с расширенным пониманием категории ошибок, к которой можно отнести самый широкий спектр примет спонтанности, обусловленных спецификой устного речепорождения. Количество таких ошибок в речи можно сократить, но практически нельзя до конца преодолеть (см., например, работы об ошибках в монологах чтения русских по-русски1 [19; 20; 24; 1]). Однако борьба с первым типом ошибок идет постоянно, можно сказать, что она и есть процесс обучения русскому языку как иностранному. В ходе углубления знаний о неродном языке учащиеся постепенно преодолевают ошибки, связанные с недостаточным уровнем владения изучаемым языком.
В монологах чтения китайцев на русском языке были обнаружены разнообразные ошибки, и целью настоящего исследования стало построение их типологии, с учетом возможных причин возникновения, а также установление корреляции между типом ошибки и индивидуальными характеристиками информантов: гендером, психотипом и уровнем владения русским языком.
Материалом для исследования стали 40 монологов неподготовленного чтения на русском языке, записанных от 20 носителей китайского языка, поровну сюжетных (рассказ М. Зощенко «Рубашка фантази») и несюжетных (отрывок из повести В. Короленко «Слепой музыкант») текстов. Все монологи входят в устный монологический корпус «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ), разработанный в СПбГУ [9; 4; 6].
Степень сложности исходных текстов была проверена с помощью программы оценки сложности русскоязычного текста для иностранной аудитории [21]. Согласно этой программе, уровень сложности текста М. Зощенко соответствует уровню владения русским языком B1; лексический минимум B2 покрывает 77 % этого текста, а лексический минимум C1 — 85 % текста. Уровень сложности несюжетного отрывка из текста В. Короленко соответствует уровню В2; лексические минимумы В1 и В2 покрывают лишь 60 % этого текста, а лексический минимум C1 — 81 % текста [14; 15]. Уже на этом основании можно предположить, что чтение несюжетного текста будет сложнее для китайцев и именно здесь можно ожидать больше ошибок.
Состав информантов, в число которых вошли студенты и аспиранты петербургских вузов в возрасте 23–28 лет, был сбалансирован по полу (10 юношей и 10 девушек) и по уровню владения русским языком (ТРКИ) (10 человек с ТРКИ-В2 и 10 с ТРКИ-С1), согласно Российской государственной системе тестирования иностранных граждан1. Все информанты прошли также психологический тест Г. Айзенка [26; 16] на китайском языке2. В результате в составе информантов было выявлено 5 экстравертов, 6 амбивертов и 9 интровертов.
Чтение является продуктом комплексного восприятия исходного материала и его репродукцией. Исходные тексты, предложенные информантам, содержали ряд сложных для чтения лексико-грамматических единиц, таких как незнакомые слова ( теперича, давеча, фимиам ), знакомые, но нечастотные слова ( воротник, облачка, к завтрему, в аккурат ), длинные слова ( чистоплотный, двугривенный, колеблющийся, опрокинутый ), имена собственные ( Лукерья Петровна ), идиомы и фразеологизмы ( мать честная. ах чёрт! чёрт его знает! что за чёрт! ). Кроме того, в зависимости от уровня владения русским языком и индивидуальных характеристик, читающие испытывали эти затруднения в разной степени и по-разному реагировали на них [5].
В ходе неподготовленного чтения китайцев было выявлено 923 единицы ошибок, которые были разделены на четыре типа:
-
1) акцентологические (393, 42,6 % общего количества ошибок);
-
2) лексико-грамматические (240, 26 %), в том числе:
-
a. замена слова (101, 42 % от количества лексико-грамматических ошибок),
-
b. замена словоформы (139, 58 % количества лексико-грамматических ошибок),
-
3) квазислова (232, 25,1 %),
-
4) контаминация акцентологической и лексико-грамматической ошибки (58, 6,3 %).
Рассмотрим получившуюся типологию подробнее.
Акцентологические ошибки возникают в речи инофонов, как правило, в связи с ограниченным лексическим запасом. Информанты в процессе распознавания букв при чтении незнакомого или плохо знакомого слова определяют место ударения в нем по интуиции, с помощью экспорта смежного элемента из своего ментального лексикона 1, ср.: давЕча (вечно), этАкую (этап), фантАзи (фантазия), ворОтниками (ворота), сверхУ (наверху), стирАная (стирать), полдЕнь (день), мУ-Узыкант (музыка), свЕркая (свет) (здесь и далее прописная буква обозначает неправильное ударение в слове, а повторение гласной буквы в слове (у-у ) означает растяжку соответствующего звука).
Кроме того, акцентологические ошибки могут возникнуть и в знакомых словах, включенных в лексические минимумы для В2 и С1. Здесь негативное влияние может оказать подвижный характер ударения в том или ином слове, ср.: рЕка, небесного цветА, врЕменами, отэ-э / ветрА и другие.
Несомненно, в связи с неподготовленностью речи и некоторым напряжением при выполнении речевого задания информанты могут поставить неуместное ударение в знакомых и простых словах даже и при отсутствии в них подвижного ударения, ср.: скАрее, горлО и др. С такими ошибками можно бороться лишь с помощью целенаправленного развития навыков чтения.
Некоторые информанты совершили акцентологическую ошибку при прочтении глагола в форме ср. р. прошедшего времени ( билОсь ). По опыту изучения русского языка такие ошибки можно объяснить следующим образом: при обучении РКИ преподаватели часто специально так прочитывают студентам подобные формы, чтобы они отличали формы ср. р. от форм ж. р., которые часто омофоничны. Студенты запоминают такое прочтение и затем повторяют его.
Лексико-грамматические ошибки. Исследователи давно заметили, что «коммуникативные потребности инофонов превосходят уровень их языковых возможностей», и поэтому они склоны упрощать парадигмы грамматического склонения или спряжения и подсознательно выбирают те единицы, которые «прочнее вписаны в их ментальный лексикон» [26]. А ментальный лексикон человека часто связан с более частотными словами или словоформами. По способу замены были выделены следующие подтипы лексико-грамматических ошибок.
-
(1) Замена слова более частотным или более привычным, но близким по орфографии и, соответственно, по звучанию, ср.: аккаунт вм. аккурат, лодке вм. локтях, у меня вм. у нас, отхода вм. охота, подробно вм. подобно, лимонами вм. лиманами, дальше вм. дальние, не боюсь вм. небось, принято вм. приятно .
-
(2) Замена словоформы более частотной (привычной) грамматической формой:
-
а) замена словоформы начальной формой слова: бухгалтер вм . бухгалтеру, говорить вм. говорит ;
-
б) замена словоформы другой формой того же слова: надевал вм. надевая, стираю вм. стирала, таяло вм. таяли ;
-
в) замена словоформы другим вариантом той же формы: чтобы вм. чтоб, поскорее вм. поскорей, покрасивее вм. покрасивей.
В последнем случае замена происходит, как правило, по принципу: разговорная форма ^ литературная форма. Видно, что литературные формы знакомых слов иностранные студенты знают хорошо, в то время как с разговорными оказываются порой совсем не знакомы.
Контаминация фонетических и лексико-грамматических ошибок. Нередко в ходе чтения информант допускает в одном слове сразу две ошибки: например, заменяет букву/слово/словоформу и ошибается в ударении, ср.:
-
(1) смешение/замена/добавление букв и неправильное ударение: девАча вм. давеча ; ЖУ-укерья вм. Лукерья ; фан-тАнзи вм. фантази ; бордУ вм. морду ;
-
(2) смешение словоформ/слов и неправильное ударение: слЕпая музыкант вм. слепой музыкант.
Квазислова. Квазислово (от лат. quasi — ‘как будто, будто бы’) словари трактуют через значение приставки квази --‘мнимый, ненастоящий’ [22, с. 43]. Такие мнимые, не существующие в языке единицы встречаются в речи как ионофонов, так и русских [3]. Квазислова в естественной речи (в отличие от тех, что создаются намеренно для какого-либо лингвистического эксперимента [12]) часто рождаются путем искажения полноценного слова, что отражается на фонетическом уровне, реже — с опорой на возможный словообразовательный потенциал лексем. В ходе анализа материала в нашем исследовании были выделены следующие разновидности таких единиц:
-
(1) замена звука в слове ( заскочал вм. заскочил , теперила вм. теперича , ки-дайцы вм. кидаться, девеча / девяча вм. давеча );
-
(2) добавление звука в слове ( давечка вм. давеча, стирарная вм. стираная, рябрь вм . рябь );
-
(3) пропуск звука в слове ( бухалтер вм. бухгалтер, сутно вм. смутно, деткое вм. детское, сломой вм. соломой );
-
(4) перестановка звуков в слове ( без махства вм. без хамства );
-
(5) контаминация вышеупомянутых типов ( проснела вм. пронесла, крастинка вм. картинка, предтосла вм. предстояла ).
Видно, что подобные единицы не слишком отличаются от приведенных выше девАча, ЖУ-укерья, фан-тАнзи или бордУ, которые были расценены как ошибки определенного типа. Можно согласиться с мнением Н. В. Богдановой-Бегларян, что «вопрос о разграничении этих трех понятий (ошибка, оговорка и квазислово. — Ч. К. ) еще ждет своего теоретического осмысления» [3, с. 1235].
Корреляции с характеристиками говорящих/читающих и типом текста. Анализ материала показал, что ошибки в русской речи иностранцев разнообразны и многочисленны, особенно в том случае, когда они без подготовки читают незнакомый текст. Причины появления ошибок связаны, с одной стороны, со спонтанностью устной речи, с другой стороны, с недостаточным владением информантами русским языком.
Более того, при рассмотрении корреляций между индивидуальными характеристиками читающего и количеством ошибок обнаружилось, что информанты-юноши ошибались чаще, чем девушки, вне зависимости от типа текста (55,4 vs 44,6 %); а информанты с уровнем С1 (более высокий уровень владения русским языком) в целом совершили ошибок чуть больше, нежели информанты с уровнем В2 (более низким) (51,9 vs 48,1 %). Это можно объяснить, вероятно, более высоким темпом речи тех учащихся, кто чувствует себя в русском языке более уверенно. При высокой скорости чтения они могут чаще ошибаться и не всегда замечать сделанную ошибку. Правда, акцентологических ошибок оказалось больше именно в речи информантов с более низким уровнем ТРКИ-В2: 52,4 vs 47,6 % в речи группы с уровнем С1.
В речи информантов-интровертов обнаружилось меньше квазислов (29,2 %), чем в речи амбивертов и экстравертов (40,5 и 30,2 %).
Вопреки ожиданиям, чтение сюжетного текста выявило больше речевых ошибок, чем чтение несюжетного, хотя в целом примет спонтанности оказалось больше в монологах чтения именно несюжетного текста [13].
Самым популярным типом ошибок в монологах чтения носителей китайского языка оказались акцентологические (42,6 %).
Дополнительная типология ошибок. В научной литературе существует еще классификация ошибок по реакции на них информанта [20; 25; 9]:
-
1) ошибки замеченные и исправленные: см. ниже примеры (1), (2), (3),
-
2) ошибки замеченные и неисправленные: (4),
-
3) ошибки не замеченные и, соответственно, неисправленные: (5), (6).
Первый тип можно толковать как случаи самокоррекции , когда информант, заметив ошибку, моментально (онлайн) либо после короткой передышки (офлайн) исправляют речевой сбой1. Хотя результат такой самокоррекции может быть не всегда удачным. В случае неудачной самокоррекции обычно образуется цепочка ошибок, ср.:
-
1) завтра-а /1 вечЕрника / вечеринка // надо кэ завтра / надо к завтрему ;
-
2) не лезёт / не лезет / не лезёт ST <забыла (перевод мой . -Ч. К. ) > ;
-
3) за рекой / чернели // р... разопревшие нивЫ // и парили // застилая // реЮщею / колеблЮ... / колеблЮщ... / колеблЮщеюсь лЮ... колеблЮщеюся / дымкой дальшие // лАчиги //;
-
4) на-а вечеринке / думаю / все / барЫшни / ки-даться будут;
-
5) в воскресИнье у нас / вечеринка / предстояла ;
-
6) вот примерИл эту рубаху / и как-то не п[о] себе стало.
В контексте (1) информант прочитал слово вечеринка с ошибкой, заметил это, о чем свидетельствует пауза хезитации, и исправил себя. В том же контексте он прочитал кэ завтра вместо к завтрему и, начав фразу с начала, исправил ошибку и вышел таким образом из «точки сбоя».
В контексте (2) информант засомневался в прочтении слова лезет , но, колеблясь между правильным и неправильным вариантами, остановился все же на неправильном ( лезёт ). Причину колебания информант сам объяснил в метакоммуникативной вставной конструкции на китайском языке: он забыл правильное ударение в этом слове.
В примере (3) хорошо видно, что информант не знает слова колеблющийся : он несколько раз пробовал его прочитать, но так и не справился с длинным незнакомым словом, в результате получилась цепочка ошибок.
Все ошибки в приведенных примерах однозначно замечены информантами, во всех случаях сделана попытка их исправить, хотя и не всегда удачная.
В примере (4) информант тоже заметил ошибку, о чем свидетельствует недолгая хезитационная заминка, но не стал ее исправлять и продолжил чтение. Стоит отметить, что разного рода хезитации часто выступают показателем того, что ошибка говорящим замечена.
В последних контекстах (5)-(6) информанты сделали ошибки (подчеркнуты), которых, по-видимому, не заметили, поскольку продолжили чтение без всяких хезитаций. Такие ошибки, разумеется, остаются неисправленными.
Приведенный анализ корпусного материала позволяет утверждать, что в русской речи иностранцев встречаются ошибки разного типа, в том числе и тогда, когда они без подготовки читают незнакомый текст. Появление ошибок связано, с одной стороны, со спонтанностью устной речи (это свойственно и речи на родном языке), а с другой стороны, с недостаточным уровнем владения русским языком (свойственно, как правило, только иностранцам). Помимо того, на качество чтения влияют тип текста (его сюжетность/несюжетность) и навыки чтения, которыми обладают информанты. Ошибки бывают фонетические (акцентологические и порождение квазислов) и лексико-грамматические (замена слова или словоформы). Преодоление этих ошибок на уроках русского языка в иностранной аудитории может, соответственно, идти двумя путями: изучение словаря и грамматики (повышение уровня владения языком) и развитие навыков устной речи.
Список литературы Типология ошибок в неподготовленном чтении на русском языке как неродном (на материале речи китайцев)
- Баева Е. М. Хезитационные явления в устных монологах низкой степени спонтанности // Коммуникативные исследования. 2018. № 1 (15). С. 75–84. Текст: непосредственный.
- Богданова Н. В. Русское слово в трех режимах фиксации — словарь, ментальный лексикон и реальное употребление (лексикографический и лингвометодический аспекты) // Русский язык за рубежом. 2011. № 6 (229). С. 56–64. Текст: непосредственный.
- Богданова-Бегларян Н. В. Ошибка — оговорка — квазислово: размышления о сходствах и различиях // Наука СПбГУ — 2020: сборник материалов всероссийской конференции по естественным и гуманитарным наукам с международным участием. Санкт-Петербург: Скифияпринт, 2021. С. 1234–1235. Текст: непосредственный.
- Богданова-Бегларян Н. В., Шерстинова Т. Ю., Зайдес К. Д. Корпус «Сбалансированная Аннотированная Текстотека»: методика многоуровневого анализа русской монологической речи // Анализ разговорной русской речи (АР3–2017): труды Седьмого междисциплинарного семинара / науч. ред. Д. А. Кочаров, П. А. Скрелин. Санкт-Петербург: Политехника-принт, 2017. С. 8–13. Текст: непосредственный.
- Корпус «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ): изучение специфики русской монологической речи / Н. В. Богданова-Бегларян, О. В. Блинова, К. Д. Зайдес, Т. Ю. Шерстинова // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова / гл. ред. А. М. Молдован. Вып. 21. Национальный корпус русского языка: исследования и разработки / ответственный редактор выпуска В. А. Плунгян. Москва: Институт русского языка РАН, 2019. С. 111–126. Текст: непосредственный.
- Богданова-Бегларян Н. В., Кун Чунься. «Стратегии» прочтения незнакомого русского слова носителями китайского языка // Социо- и психолингвистические исследования. 2020. № 8. С. 32–39. Текст: непосредственный.
- Глазанова Е. В. Типы связей в ментальном лексиконе и экспериментальные методы их исследования: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Санкт-Петербург, 2001. 237 с. (машинопись). Текст: непосредственный.
- Залевская А. А. Слово в лексиконе человека: Психолингвистическое исследование. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. 205 с. Текст: непосредственный.
- Звуковой корпус как материал для анализа русской речи: коллективная монография. Ч. 1. Чтение. Пересказ. Описание / ответственный редактор Н. В. Богданова-Бегларян. Санкт-Петербург: Филологический фак-т СПбГУ, 2013. 532 с. Текст: непосредственный.
- Золотова Н. О. Ядро ментального лексикона человека как естественный метаязык: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Тверь, 2005. 44 с. Текст: непосредственный.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва: Наука, 1987. 264 с. Текст: непосредственный.
- Королева И. В. Роль лингвистических факторов в развитии процессов чтения (экспериментальное исследование на материале русского языка): диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Санкт-Петербург, 2006. 227 с. (машинопись). Текст: непосредственный.
- Кун Чунься. Неподготовленное чтение как разновидность спонтанной речи (о приметах спонтанности в чтении на неродном языке) // Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2021 (в печати).
- Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 2-й сертификационный уровень. Общее владение / редактор Н. П. Андрюшина. Санкт-Петербург: Златоуст, 2011. 164 с. Текст: непосредственный.
- Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 1-й сертификационный уровень. Общее владение / редактор Н. П. Андрюшина. Санкт-Петербург: Златоуст, 2015. 200 с. Текст: непосредственный.
- Личностный опросник EPI (методика Г. Айзенка) // Альманах психологических тестов / составители и редакторы Р. Р. Римский, С. А. Римская. Москва: КСП, 1995. С. 217–224. Текст: непосредственный.
- Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Академия, 2001. 256 с. Текст: непосредственный.
- Словарь русского языка: в 4 томах. Т: II. К–О / редактор А. П. Евгеньева. Изд. 3-е, стер. Москва: Русский язык, 1986. 736 с. Текст: непосредственный.
- Рыженко Ю. А. К проблеме классификации речевых ошибок // Научные труды КубГТУ. 2016. № 6. С. 290–298. Текст: непосредственный.
- Сапунова Е. М. Лингвистические особенности неподготовленного чтения как вида речевой деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. Вып. I. Ч. II. 2009. С. 161–168. Текст: непосредственный.
- Сапунова Е. М. Неподготовленное чтение как вид речевой деятельности и тип устного спонтанного монолога (на материале русского языка): диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Санкт-Петербург, 2009. 237 с. (машинопись). Текст: непосредственный.
- Степихов А. А. Чтение текста: норма и реализация // Фонетика в системе языка: тезисы III Международного симпозиума МАПРЯЛ. Москва: Изд-во РУДН, 2002. С. 85–86. Текст: непосредственный.
- Тезекбаева Г. А. Спонтанная речь как объект лингвистики // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2011. № 1. С. 76–79. Текст: непосредственный.
- Хан Н. А. Заметить / не заметить, исправить / не исправить: анализ ошибок неподготовленного чтения (на материале Звукового корпуса русского языка) // Русская филология. 23: сборник научных трудов молодых филологов. Тарту: Тарт. ун-т, 2012. С. 208–215. Текст: непосредственный.
- Цейтлин С. Н. Грамматические ошибки в освоении русского языка как первого и как второго // Вопросы психолингвистики. 2009. № 9. С. 43–53. Текст: непосредственный.
- Eysenk, H. J., Eysenk, S. B. G. Manual of the Eysenck Personality Inventory. London: Univ. of London press, 1964. 24 p. Текст: непосредственный.