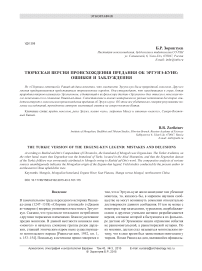Тюркская версия происхождения предания об Эргунэ-Куне: ошибки и заблуждения
Автор: Зориктуев Б.Р.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.
Бесплатный доступ
Из «Сборника летописей» Рашид-ад-дина известно, что местность Эргунэ-кун была прародиной монголов. Другого мнения придерживаются представители тюркоязычных народов. Они утверждают, что находившаяся в горах Алтая прародина тюрков называлась Эргенеконом, а бытующий в их фольклоре дастан «Эргенекон» был отнесен к монголам после включения его в сочинение Рашид-ад-дина. Сопоставление и анализ материалов из разных источников бесспорно свидетельствуют о монгольском происхождении предания об Эргунэ-куне. Об этом же убедительно говорят результаты полевых исследований, проведенных автором настоящей статьи на северо-востоке Китая.
Предки монголов, река эргунэ, плато "кун", северо-восточный китай
Короткий адрес: https://sciup.org/145145712
IDR: 145145712 | УДК: 398 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.107-115
Текст научной статьи Тюркская версия происхождения предания об Эргунэ-Куне: ошибки и заблуждения
В замечательном труде персидского историка Рашид-ад-дина (1247–1318) «Сборник летописей» («Джами ат-таварих») впервые упоминается местность Эргунэ-кун. Сказано, что туда после тотального истребления «другими тюркскими племенами» бежали уцелевшие предки монголов. В данной местности возникло имя «монгол» и началось сложение группы родов дарле-кин, ставшей этническим ядром ныне существующего монгольского народа [Рашид-ад-дин, 1952, кн. 1, с. 153–154]. Поскольку в источнике прямо говорится о том, что в Эргунэ-куне жили нашедшие там убежище монголы, то, казалось бы, в мировом научном сообществе не могут возникнуть сомнения относительно достоверности данного сообщения. И тем не менее с некоторых пор казахскими, турецкими, азербайджанскими и другими учеными активно разрабатывается версия, согласно которой в бытующем в их фольклоре дастане об Эргенеконе нашли отражение события не раннемонгольской, а раннетюркской истории. По их мнению, дастан стал называться монгольским потому, что в свое время был заимствован монголами у тюрков. Позже Рашид-ад-дин, являвшийся официаль-
ным историком монгольских ильханов династии Ху-лагуидов, внес его в свой «Сборник летописей» и закрепил эту ошибочную точку зрения [Kafesoğlu, 1995, s. 318; Кондыбай, 2005, с. 107]. Так ли это?
История появления дастана «Эргенекон»
В моем распоряжении имеется текст дастана «Эрге-некон», опубликованный в 2000 г. литературоведом Н. Келимбетовым в энциклопедии «Туркестан». В короткой преамбуле автор пишет, что в прошлом в устном творчестве казахов видное место занимал дастан «Эргенекон» – большое эпическое произведение, в ярких красках живописавшее жизнь казахского народа. В полном виде его текст не сохранился, остался один цельный фрагмент о прародине тюрков, благодатной земле Эргенекон, внешне выглядящий вполне самостоятельным фольклорным сочинением.
Суть дастана кратко такова. Тюркский Эл-хан потерпел сокрушительное поражение в войне с врагами. Принадлежавший ему народ был полностью уничтожен, в живых остались лишь его младший сын Каян и племянник Тогуз. Эти двое, вырвавшись из плена, забрав жен и оставшийся скот, с целью спасения поспешили на поиски недоступной для врагов земли. Долго скитаясь, они однажды по узкой тропе попали в местность, окруженную высокими непроходимыми горами, где протекала полноводная река, раскинулись чудесные пастбища, росли изумительные фруктовые сады, имелись полные дичи леса. Путники обосновались в этой местности, подобной раю, и назвали ее Эргенеконом (др.-тюрк. ергене – «брод, переправа, горное ущелье», қон – «стойбище, место жительства»; слово в целом – «стойбище (скотоводов) в горном ущелье»). Потомки Каяна и Тогуза прожили там в мире и счастье 400 лет. Образовался многочисленный народ, и Эргенекон стал тесным для него. Видя это, мудрый хан Борте-Шене сказал своему народу: «О, отважные потомки святой матери Голубой волчицы (Көк бөрі)! Благодатная земля Эргенекон приняла наших предков, нас стало много. За это поклонимся священному Эргенекону. Но нельзя забывать, что за его неприступными горами, защищавшими нас от врагов, находится занятая подлыми табгашами (табғаштар) наша родина, там могилы наших предков. Настало время вернуться туда и очистить от врагов нашу землю». Призыв Борте-Шене поддержал весь народ. Но выяснилось, что никто не знает, как выйти из Эргене-кона. Тропа, по которой некогда пришли туда Каян и Тогуз, оказалась забытой. Тогда по совету одного кузнеца у подножья горы, содержащей железную руду, сложили много деревьев и разожгли большой костер. Огонь раздували с помощью меха, изготовленного из шкур 70 верблюдов. Когда железо расплавилось, обра- зовался проход. По нему тюрки вышли из Эргенекона и достигли своей прежней родины. Разгромив и прогнав табгашей, они по истечении 450 лет стали хозяевами родной земли [Келiмбетов, 2000а].
Одним из главнейших недо статков публикации Н. Келимбетова является то, что в ней не указаны источники, из которых взят дастан «Эргенекон». Однако из других его работ выясняется, что идентичный текст имеется в трудах турецкого ученого Н. Банарлы. Н. Келимбетов пишет: «Некоторые исторические события, составившие канву произведений древнетюркской литературы, встречаются в дастане “Эргенекон”. Чтобы правильно понять обстоятельства, вызвавшие появление этого сказания, приведем его содержание. Оно известно благодаря исследованиям историка тюркской литературы Н. Банарлы» [Келiмбетов, 2000б, с. 56; Келiмбетов, 2004, с. 78–79]. Далее следует изложение дастана в записи турецкого ученого, слово в слово повторяющее текст в энциклопедии «Туркестан».
Получается, дастан «Эргенекон», о котором Н. Ке-лимбетов писал как о произведении казахского фольклора, на самом деле таковым не является. Видимо, он полагал, что если казахи входят в число тюркских народов и имели с ними общую историю и культуру, то дастан, записанный Н. Банарлы, существовал и в казахском фольклоре. Но прежде чем делать такой скорый вывод, Н. Келимбетов обязан был исследовать произведение, установить, в частности, когда и откуда сказание об Эргенеконе появилось у турков. Однако такая работа им не была проведена, что вынуждает с большим скептицизмом относиться к утверждению об изначальном бытовании этого дастана в традиционном фольклоре казахов.
Важно выяснить, откуда в турецком и вообще в тюркском фольклоре появилось сказание об Эрге-неконе. Специалисты, хорошо знающие материал об Эргунэ-куне в разных источниках, безошибочно определят, что пересказанный Н. Келимбетовым дастан не только по основной сюжетной линии, но и по целому ряду бросающихся в глаза частных деталей совпадает с информацией, имеющейся в сочинении «История монголов» персидского историка Хондемира (1475–1535/1536 либо 1537) и особенно в труде «Родословная история о татарах» (в России оно известно и как «Родословное древо тюрков») хивинского хана Абу-ль-Гази (1603–1663).
Работа Хондемира заметно перекликается со «Сборником летописей» его знаменитого предшественника и соотечественника Рашид-ад-дина. В то же время в освещении некоторых ключевых событий в ней прослеживаются несвойственные «Сборнику летописей» нюансы, возникновение которых нельзя объяснить ничем иным, как влиянием в Иране набиравшей силу тенденции переписывания важнейших аспектов истории монголов с последующим отнесением их к тюркской истории. В сочинении Хондемира это проявилось в том, что весь сопутствующий преданию об Эргунэ-куне (Эргэне-Кун в его написании) исторический фон смещен в район к западу от современной Монголии, монгольский топоним Эргунэ-кун назван тюркским, имя одного из скрывшихся в данной местности людей Нукуз заменено на Тегуз (позже оно оказалось в варианте дастана, попавшем к Н. Келим-бетову) [Хондемир, 1834, с. 6–7].
Протюркская направленность повествования об Эргунэ-куне менее заметна в сочинении Абу-ль-Гази. Об этом свидетельствует хотя бы то, что он топоним Эргунэ-кун (Иргана-Кон в его написании) называет монгольским. По словам хивинского хана, при написании этой работы он пользовался трудами многих авторов. Из них он называет только «Джамаставарег», т.е. «Джами ат-таварих» Рашид-ад-дина, сопровождая свое сообщение сведениями о заказчике данного сочинения (Газан-хан) и основном информаторе (Пулад-чинсан) [Абулгачи-баядур-хан, 1768, с. 111]. Все это свидетельствует о том, что Абу-ль-Гази при создании своего труда в первую очередь опирался на «Сборник летописей», а рассказ об Эргунэ-куне полностью перенял у Рашид-ад-дина.
К идентичным деталям (они выделены мной курсивом) в приведенном Н. Келимбетовым дастане об Эргенеконе и в сочинении Абу-ль-Гази отно сятся следующие (здесь все имена собственные оставлены в том виде, в каком они даны в обоих источниках):
-
– предводителя побежденного народа, о статки которого бежали в межгорную долину Эргенекон (Иргана-Кон), звали Эл-хан (Ил-хан) ;
-
– враги одолели народ, остатки которого скрылись в Эргенеконе (Иргана-Коне), путем подлого обмана , заманив его воинов в засаду ;
-
– из двоих спасшихся в Эргенеконе (Иргана-Коне) людей один приходился Эл-хану ( Ил-хану ) младшим сыном, другой – племянником ;
-
– Каян и Тогуз (Нагос) во время побоища были захвачены в плен, но сумели вырваться. Взяв жен и скот, они в поисках спасения бежали в горы ;
-
– облюбованная беглецами долина Эргенекона (Иргана-Кона) была подобна раю. Здесь протекала чистая полноводная река, по одну ее сторону раскинулись чудесные пастбища с сочной травой, по другую – благоухающие фруктовые сады ;
-
– беглецы и их многочисленные потомки прожили в Эргенеконе (Иргана-Коне) 400 лет ;
-
– обитатели Эргенекона (Иргана-Кона) знали, что за его высокими горами находятся земля и могилы предков и приняли решение вернуться туда ;
-
– многочисленный народ из Эргенекона (Ирга-на-Кона) вывел Борте-Шене (Бертечена). Он разбил подлых врагов и освободил землю своих предков.
Это произошло спустя 450 лет после гибели Эл-хана ( Ил-хана ) [Келiмбетов, 2000а; Абулгачи-баядур-хан, 1768, с. 102–109].
Все перечисленные совпадающие подробности отсутствуют в «Сборнике летописей». Это прямо указывает на то, что имеющийся у ряда тюркских народов дастан «Эргенекон», с момента своего появления бытовавший у них, видимо, в рукописном виде, является заимствованием. Он был целиком и почти дословно перенят в XVII в. у Абу-ль-Гази, а не в конце XIII – начале XIV в. у Рашид-ад-дина, как можно было бы подумать. Взятый из труда хивинского хана и ранее частично из сочинения Хондемира материал был адаптирован к тюркской истории преимущественно путем замены слова могулл (т.е. монгол), на тюрк . В некоторых, вероятно наиболее ранних, списках да-стана (к ним отно сится пересказанный Н. Келимбе-товым текст), сохранилось монгольское имя одного из центральных персонажей – вождя укрывшихся в Эргунэ-куне монголов Бортэ-Чино (Борте-Шене в да-стане «Эргенекон»). В других, несомненно поздних, списках оно уже дается в переводе на тюркский язык – Бозкурт, что значит «серый волк». Упоминание в ранних списках тюркского дастана имени Борте-Шене является важнейшим свидетельством монгольского происхождения предания об Эргунэ-куне, о котором первым поведал миру Рашид-ад-дин.
О заимствовании тюрками сюжета об Эргене-коне из сочинения Абу-ль-Гази говорят и другие факты. Рашид-ад-дин писал, что бежавшие в Эргунэ-кун предки монголов были разбиты «другими тюркскими племенами». Специально проведенный анализ однозначно свидетельствует о том, что в данном случае имеются в виду основавшие Тюркский каганат тюр-ки-тукю, которые в 552 г. разгромили державу монголоязычных жужаней и установили свое господство в Центральной Азии [Зориктуев, 2011, с. 9–10]. Не исключено, что Абу-ль-Гази, стремясь наиболее просто и понятно объяснить читателю, кто были участники этого противостояния, выражение «другие тюркские племена» заменил одним словом «татары». Так, как все знали, после XIII в. называло сь тюркоязычное население Золотой Орды. Но после XVII в., когда взятое из труда Абу-ль-Гази сказание об Эргунэ-куне стало переосмысливаться как отголосок ранней тюркской истории и согласно ему в роли гонимых следовало показывать тюрков, твердо считающих себя потомками хунну, возникла необходимость замены слова «татары» другим этнонимом. В новых исторических реалиях логика подачи материала требовала, чтобы тюрки были разбиты не татарами, т.е. тюрками, а другим народом. И этот народ был найден. Его обозначили словом табгачи, которым в древнетюркскую эпоху называли китайцев [Стеблева, 2007, с. 37]. Из истории известно, что китайцы постоянными вторжения- ми сыграли весьма заметную роль в ускорении заката гегемонии хунну в Центральной Азии. Но, разумеется, к XVII в. воспоминания о тех далеких событиях бесследно исчезли из тюркского фольклора. Поэтому искусственное внесение слова табгачи в дастан «Эр-генекон» является, на мой взгляд, еще одним убедительнейшим подтверждением того, что данное сказание появилось у современных тюркских народов в результате заимствования относительно недавно.
По мо ему мнению, впервые тюркские народы узнали предание об Эргунэ-куне в XIII в. от монголов в ходе их экспансии на запад. По мере удаления от событий того времени и усиления процесса отюречива-ния монгольских правителей в завоеванных странах население покоренных земель постепенно проникалось мыслью о том, что в повествовании об Эргунэ-куне отложились эпизоды раннетюркской, а не раннемонгольской истории. Может показаться, что такая интерпретация монгольского предания получила развитие в XIV в. На мой взгляд, если принять во внимание сочинение Хондемира, то первые подступы к переработке этого сказания в плане отнесения его к тюркам следует датировать рубежом XV–XVI вв.
Необратимый характер процесс тюркизации предания об Эргунэ-куне, приведший к трансформации его названия в Эргенекон, получил после XVII в., когда ушел из жизни один из последних крупных знатоков монгольской истории в кругу тюркских ученых-просветителей – чингисид Абу-ль-Гази. С учетом развития ситуации в предыдущие периоды можно предположить, что теперь усилия были направлены на создание такого общественного мнения, которое убеждало бы в том, что в повествовании об Эргунэ-куне в сочинении Абу-ль-Гази отображена тюркская история. В середине XVIII в. эта крайне ошибочная мысль проникла в европейскую науку. Первым ее озвучил французский востоковед Де Гигнес, который написал: «В известных по китайским источникам древнетюркских легендах обнаруживается близость к имеющемуся в сочинении Эбулгази Бахадур хана материалу об Эргенеконе» [Ögel, 1957, s. 104–105]. В словах Де Гигнеса, бравшего во внимание лишь некоторое отдаленное сходство сюжетов, содержится явный намек на то, что повествование об Эргунэ-куне (Иргана-Коне) у Абу-ль-Гази имеет тюркские корни. Современная наука объясняет обнаруживаемую в ряде случаев типологическую общность сюжетов фольклорных произведений тем, что в их основе лежат одинаковые или сходные общественные и культурнобытовые предпосылки, сложившиеся на определенных этапах исторического развития разных народов независимо друг от друга и в разное время [Свод…, 1991, с. 104]. Разумеется, это важное теоретическое положение в силу невысокого уровня развития науки в середине XVIII в. не мог знать Де Гигнес. Но его сле- довало бы учитывать тем нынешним исследователям, которые считают, что дастан «Эргенекон» берет начало в древнетюркских легендах. Если бы дело обстояло именно так, то в этих легендах непременно упоминался бы топоним Эргенекон. Но он в китайских источниках отсутствует. Думать, что его специально в форме Эргунэ-кун придумали монголы и внесли в заимствованный ими из тюркского фольклора дастан, мягко говоря, несерьезно.
В дальнейшем усилившаяся в тюркском обществе практика односторонней трактовки исторического материала привела к сложению унифицированной версии дастана об обетованной земле Эргенекон. Она по разным каналам, возможно, из одного наиболее развитого в культурном отношении центра распространялась на территории расселения тюркских народов. Унификация сказания обусловлена исключительно тем, что оно практически целиком и без изменений было взято из труда Абу-ль-Гази, в меньшей степени – из сочинения Хондемира и после некоторой переработки перенесено на тюркскую почву. Это видно по известным сегодня у казахов, турков, азербайджанцев, туркменов текстам дастана «Эргенекон», которые мало отличаются друг от друга.
Гипотезы о местонахождении прародины тюрков Эргенекон
Со временем встала непростая задача найти историческую подоплеку возникновения дастана об Эргене-коне, связать его содержание с конкретным местом и известными эпизодами раннетюркской истории. Несомненно, в границах Российской империи сторонники тюркской версии происхождения дастана с воодушевлением встретили вышедший в середине XIX в. труд русского синолога Н.Я. Бичурина (Иакин-фа) «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена». В нем автор помимо того, что показал возможности богатейшей китайской литературы для изучения истории разных регионов Азии, высказал свое мнение о местонахождении Эргу-нэ-куна (Эргэне-кун в его написании) в горах Алтая.
Книга получила восторженную оценку со стороны российской научной общественности. Однако критика еще при жизни Н.Я. Бичурина справедливо отмечала имеющиеся недостатки, обусловленные некритическим восприятием китайских источников, недостаточно четко выстроенной концепцией исследования, слабостью комментария и – добавлю от себя с позиции сегодняшнего дня – общим уровнем развития гуманитарных наук в России в середине XIX в. Больше всего автора упрекали за то, что, выступая в своем труде страстным поклонником теории монгольского происхождения народов Центральной Азии, он необ- основанно отождествлял этниче скую принадлежность древних племен с таковой современного населения тех же районов [Бичурин, 1950, с. XXXVIII]. До возвышения монголов на территории их расселения жили различные народы, и все они, как думал Н.Я. Бичурин, были монголами. К таковым он, в частности, относил тюрков-тукю, ошибочно полагая, что их имя этимологизируется из монгольского языка. По мнению Н.Я. Бичурина, слово тукю – это монгольское дулга (правильно дуулга. – Б.З.) – «шлем». Алтайский хребет, являвшийся местом формирования монголоязычных, как он считал, тюрко-тукюских племен, «состоит из кругообразного сцепления утесистых гольцов с глубокою и пространною долиною внутри их и представляет собой вид шлема, обращенного углублением кверху. Шлем по-монгольски называется дул-га, от чего Ашина и название своему поколению принял». Глубоко неверное суждение о происхождении слова тукю вызвало другую, не меньшую ошибку: если монголоязычные тюрки-тукю из рода ашина обитали на Алтае, то там находилась первоначальная родина монголов Эргунэ-кун. Как бы подтверждая свою правоту, автор пишет: «Сия-то часть Алтая азиятскими историками названа Эргэне-кун» [Там же, с. 220, 226–227]. Под «азиятскими историками» Н.Я. Бичурин имел в виду Хондемира и Абу-ль-Гази, которые, однако, не высказывали своего мнения о местонахождении прародины монголов. Но поскольку в сочинении Хондемира весь сопутствующий Эргунэ-куну исторический фон смещен к западу от современной Монголии, Н.Я. Бичурин, видимо, полагал, что персидский историк, подобно ему, был склонен данную местность относить к Алтайским горам.
В целом видно, что Н.Я. Бичурин проблему Эргу-нэ-куна считал сугубо монгольской. Но его всепогло-щенность идеей монгольского происхождения всех этносов, когда-либо обитавших на территории Монголии, привела к неправильному выводу о местонахождении прародины монголов в Алтайских горах. Мои высказывания не имеют целью умалить значение блестящего труда Н.Я. Бичурина. Я лишь констатирую тот факт, что высокий авторитет русского ученого в огромной степени поспособствовал утверждению в сознании части исследователей его ошибочного мнения о местонахождении Эргунэ-куна в горах Алтая, который практически всеми современными специалистами, независимо от научных пристрастий, справедливо рассматривается как место завершающего этапа становления тюркского этноса [История Тувы, 2001, с. 70–71; Монгол…, 2003, с. 315; Кляшторный, Савинов, 2005, с. 79].
Ранний период истории тюрков нашел отражение в их генеалогических легендах, зафиксированных в «Чжоу шу» (629) и «Суй шу» (656). В одной из них говорится, что туцзюэ (тюрки) были отдельной ветвью хунну. Они жили к западу от моря Сихай (так называлась обширная дельта р. Эдзин-Гол на севере пустыни Алашань. – Б.З.) и были истреблены соседним племенем. В живых остался один мальчик, которого, отрезав ему руки и ноги, бросили в заросшее травой озеро. Мальчика выкормила волчица. Спасая себя и его от врагов, волчица ушла к горам к северо-западу от Гаочана (Турфан). Там она поселилась в пещере и родила от мальчика десять сыновей. Как сказано в «Чжоу шу», все они женились на местных женщинах. Одного из братьев звали Ашина. Это имя стало названием его рода. Через несколько поколений Асянь-ше (видимо, прямой потомок Ашины. – Б.З.) привел многочисленное племя на Алтай и стал подданным жужаньского хана [Чжоу шу, 1987, цз. 50, с. 907; Суй шу, 1973, цз. 84, с. 1863].
По приведенной легенде, формирование тюркского этноса, начавшееся в Восточном Туркестане, завершилось в горах Алтая. С этим тезисом перекликается фрагмент «Суй шу», в котором фольклорные данные поданы в преломлении сквозь реальную историю тюрков. Смысл его таков. Туцзюэ состояли из разных родов и жили в Пиньляне (современная пров. Ганьсу в КНР). Когда правитель государства Вэй Тхайву разгромил ведущий род цзюцу, Ашина во главе 500 семей бежал к южным отрогам Алтая. Там он стал подданным жужаньского хана и занимался плавкой железа. На Алтае туцзюэ жили в глубокой межгорной котловине, похожей на шлем. Потому Ашина принял для своего народа имя тюрк [Суй шу, 1973, цз. 84, с. 1863].
Данный отрывок из «Суй шу» с некоторыми дополнениями в комментарии Н.Я. Бичурина звучит так. В 92 г. н.э. хунну были разбиты китайцами в Тарба-гатае. Осталось лишь одно поколение, называвшееся ашина. Оно ушло к Алтаю, где под народным названием Дулга (Тукюе) поочередно находилось в зависимости от сяньбийцев и жужаней. В 552 г. усилившийся тукюеский хан Тумынь нанес поражение жужаням и объявил себя Или-ханом. Таким образом, Дом Хунну, погибший в 92 г., вновь восстал в тукюеском поколении через 460 лет после своего падения, что Абюль-кази-хан определил довольно верно [Бичурин, 1950, с. 226].
Напомню, что в сочинении Абу-ль-Гази и в производном от него дастане об Эргенеконе в пересказе Н. Келимбетова имеются два несколько повторяющихся указания о сроках обитания в Иргана-Коне (Эрге-неконе) бежавших туда людей. Вначале говорится, что они прожили там 400 лет. Затем следует более точное, по мысли Абу-ль-Гази, сообщение: с учетом событий, произошедших непосредственно до прибытия беглецов в Иргана-Кон (Эргенекон) и сразу после их выхода из него, прошло 450 лет. Отдельные исследователи, опираясь на это сочинение, так и полагают, что монголы находились в Эргунэ-куне 400 или 450 лет
[Билэгт, 1993, с. 108]. Утверждения хивинского хана могли бы иметь, пусть и очень шаткое, основание в том случае, если бы находили подтверждение в первоисточнике, каким для Абу-ль-Гази был «Сборник летописей». Однако Рашид-ад-дин подобное не писал, хотя однажды и использовал в своем труде выражение «четыреста лет». Он хотел лишь сказать, что за те 400 лет, которые прошли до Чингисхана, произошедший от Нукуза и Кияна род по имени монгол стал таким многочисленным, что его название переносят на другие народы. Ни о каком четырехвековом пребывании монголов в Эргунэ-куне здесь речь не идет [Рашид-ад-дин, 1952, кн. 1, с. 77].
Откуда Абу-ль-Гази взял данные о сроках нахождения монголов в Эргунэ-куне – неизвестно. Трудно сказать, чем он руководствовался, вводя такие дополнения в свое сочинение и тем самым искажая первоначальное содержание предания об Эргунэ-куне. Видимо, решающую роль сыграло завышенное самомнение хивинского хана, который был уверен, что именно он в состоянии написать «историю исправнейшую». В этом он открыто признался в своей книге [Абулгачи-баядур-хан, 1768, с. 15–16]. Результат же получился обратный. «Родословная история о татарах» в той части, где говорится об Эргунэ-куне, не может считаться «исправнейшей» и рассматриваться в качестве полноценного исторического источника. Что касается дастана об Эргенеконе, ставшего известным среди тюркских народов как раз благодаря заимствованию из сочинения Абу-ль-Гази, то он тем более не может быть отнесен к разряду источников. Но несмотря на все это, слегка подкорректированное сообщение хивинского хана о 450-летнем нахождении монголов в Эргуне-куне оказалось в работе Н.Я. Бичурина в качестве вспомогательного материала для трактовки событий постхуннской истории. По мнению автора, сказания Абу-ль-Гази и Хондемира «имеют историческое основание, на котором при свете китайской истории легко в самых вымыслах приметить истину» [Бичурин, 1950, с. 225]. Исходя из этого посыла, Н.Я. Бичурин предполагал, что монголоязычные тюр-ки-тукю 460 лет, между 92 и 552 г., находились в Алтайских горах, где, как он считал, среди высоких гольцов располагалась долина Эргунэ-куна.
Однако надо заметить, что одним из таких вымыслов в сочинении Абу-ль-Гази, в котором само значение слова исключает наличие какой бы то ни было истины, является сообщение о 450-летнем пребывании в Эргунэ-куне попавших туда людей. Устное творчество не могло из глубины веков донести до XVII в., когда жил хивинский хан, верную информацию о продолжительности обитания в межгорной долине некоих беглецов. Если обратиться к письменным источникам, то в них нет ни одного упоминания топонима Эргене-кон в границах Алтайского горного массива, не говоря уже о точных сроках проживания конкретных тюркоязычных групп в местности с таким названием. И тем не менее именно в таком бичуринском ключе сообщение Абу-ль-Гази использовал в кратком вступлении к дастану об Эргенеконе Н. Келимбетов: «Высокохудожественное произведение “Эргенекон” включает в себя события протяженностью в 450 лет со времени распада гуннской державы до образования первого государства тюрков – Тюркского каганата (552–745)» [Келiмбетов, 2000а, с. 293].
Н . Келимбетов пишет, что традиция обращения к своему народу в судьбоно сные моменты его истории, заложенная на Алтае предводителем тюрков Борте-Шене, выявляется в произведениях поэта XV в. Асана Кайгы. В них спустя ряд веков нашла воплощение основная идея предания об Эргенеконе – поиск и обнаружение обетованной земли для тюрков. Это, по мнению исследователя, говорит о том, что дастан «Эргенекон», вобравший в себя реально произошедшие события из раннетюркской истории, стал прочным фундаментом для последующего развития средневекового казахского фольклора и литературы [Келiмбетов, 2004, с. 80–82].
С доводами Н. Келимбетова невозможно согласиться, т.к. все данные упрямо свидетельствуют о том, что своим появлением тюркский дастан обязан труду Абу-ль-Гази. В фольклоре любого народа можно найти немало примеров обращения вождей к своему народу, содержащего призыв к объединению ради борьбы с врагами. Это фольклорное клише, которое Н. Келимбетов рассматривает как весомый аргумент в пользу того, что в дастане «Эргенекон» запечатлен один из важнейших периодов тюркской истории, на самом деле таковым не является.
Среди казахских исследователей одним из первых попытался подвести историческую основу под дастан «Эргенекон» А. Маргулан. Он пишет, что в III в. до н.э. китайское государство начало длительную войну против гуннов и в течение 600 лет окончательно обескровило их. Остатки гуннов передвинулись в Семиречье, оттуда – на южные склоны Алтая, где стали подданными сяньби и жужаней. В середине VI в. окрепшие гунны, вышедшие из алтайской долины Эргенекон, основали Тюркский каганат. Реальная ранняя история тюрков, утверждает А. Маргулан, находит параллели в фольклорном материале, в связи с чем он обратился к приводившейся мной выше генеалогической легенде о мальчике и волчице из «Чжоу шу» и «Суй шу». Остановлюсь только на одном имеющем к ней отношение моменте. Изложенный Н. Келимбетовым дастан гласит, что имя тюркского правителя в Эрге-неконе было Борте-Шене. А. Маргулан, толкуя его как «Серый Волк», пишет, что шене – это казахский вариант встречающегося в китайских источниках слова ашина [Марғұлан, 1985, с. 7–8, 58]. Замечу, что по- казахски волк – қасқыр, изредка употребляется обозначение бөрі. Слово шене – это, несомненно, монгольское чино. На территории Восточного Туркестана, где жило племя ашина с конца III в. н.э. до 460 г., преобладало иранское и тохарское население, повлиявшее на язык и культуру тюрков. Так как в царской ономастике этого региона были обычны цветовые обозначения, то связанное с ней слово ашина имело иранское происхождение и означало «синий», что идеально соответствовало общему названию тюрков kөk türk – «голубые (синие) тюрки» [Кляшторный, Савинов, 2005, с. 75–81]. Поэтому едва ли здесь бытовало исконно монгольское слово чино – «волк», которым мог быть наречен внук волчицы. В целом рассуждения А. Маргулана, не подкрепленные конкретными доказательствами, расходятся с его мыслью о том, что дастан «Эргенекон», отражая подлинные события, является важным источником для изучения раннетюркской истории.
По такому же принципу пересказа известного материала без должного его анализа и последовательного обоснования построена статья турецкого исследователя А. Ташагыла. По его мнению, все гипотезы об Эргенеконе основаны на одном сообщении из китайских источников, согласно которому тюрки произошли от хунну и до 542 г. жили у южного подножия Монгольского Алтая, однако имеются другие данные, указывающие на то, что Эргенекон следует искать на северных склонах Алтая. Ссылаясь на китайский источник «Синь Тан шу», автор пишет, что после крушения в 630 г. каганата восточных тюрков каган Чепи из рода ашина собрал свой народ и, преследуемый сир-тардушами, ушел на север Алтайских гор. Три их склона были очень крутыми. Лишь на одной стороне по узкой дороге с трудом могли проехать арба или конный всадник. Чепи прошел по ней и, заняв широкую долину, объявил себя Ичжу Чепи-каганом. Описание узкой дороги на крутых склонах непроходимых гор, пишет А. Ташагыл, очень напоминает содержание тюркского дастана об Эргенеконе, созданного до «Джами ат-таварих» Рашид-ад-дина. Поэтому между этими горами на севере Алтая могла находиться местность Эргенекон [Ta^agil, 2009]. Автор статьи, строго придерживающийся гипотезы о местонахождении прародины тюрков в Алтайских горах, абсолютно уверен в правильности своей точки зрения. Однако по описанию одной только узкой дороги на крутых склонах гор невозможно сделать вывод о том, что в «Синь Тан шу» идет речь об Эргенеконе.
Жанровые особенности дастана «Эргенекон» и предания об Эргунэ-куне
В завершение рассмотрения дастана «Эргенекон» необходимо остановиться на его жанровых особен- ностях. Они также неопровержимо свидетельствуют о том, что в сложении сказания главенствующую роль сыграл фактор заимствования сюжета. Дастаном у тюркских народов называется эпическое произведение (часто со стихотворными вставками), которое обычно является литературной или фольклорной обработкой мифов, легенд, преданий, сказочных сюжетов. Большинство дастанов литературного происхождения, сложенных когда-то отдельными авторами, со временем обрели устно-народное бытование и почти не отличаются от народно-поэтических [Большая советская энциклопедия…, 1972, с. 557]. «Эргенекон», как и большая часть произведений этого жанра, имеет книжное происхождение. Вначале взятое из «Сборника летописей» предание об Эргунэ-куне было включено в труд Абу-ль-Гази, где оно за счет введения в текст ярких эпитетов, гиперболизации событий и идеализации героев приобрело некоторые черты дастана. Завершенные формы тюркского дастана монгольское предание получило после того, как вновь было заимствовано, на этот раз уже из сочинения Абу-ль-Гази. После очередной переработки и шлифовки оно стало бытовать в тюркских регионах как самостоятельное произведение под несколько измененным названием «Эргенекон». В соответствии со спецификой жанра дастана в нем местность Эргенекон, где якобы жили предки тюрков, предстает в образе некоей не имевшей определенных координат в пространстве и времени идеализированной сказочной страны, где царят абсолютный мир и покой («жаворонок свивал гнездо на спине овцы» [Келiмбетов, 2000а, с. 293]), имеется изобилие всего необходимого для долгой и поистине райской жизни. Дастан об Эргенеконе, известный в изложении Н. Келимбетова, является универсальным и широко распространенным классическим вариантом у тюрков. Кроме него существуют, как мне представляется, региональные варианты. В них Эр-генекон отождествляется со сказочной железной горой, преодоление которой открывает людям путь к подлинному счастью. Эта гора нередко помещается там, где живет тот или иной конкретный тюркский народ. В отрывке дастана «Эргенекон», включенном в книгу бывшего Президента Туркменистана С. Ниязова «Рухнама», воспевается подвиг людей, которые, выплавив громадную рудную гору, выбрались на ее поверхность, вышли к свету [2005, с. 36]. В да-стане, упоминаемом в работе турецкого исследователя Б. Огела, говорится, что гора Эргенекон (Демир-даг) была осью земли и находилась за Средиземным морем. Однако из рассуждений автора складывается впечатление о ее локализации на территории Турции [Ögel, 1989, s. 59, 60, 71].
В противоположность тюркскому дастану содержащееся в «Сборнике летописей» повествование об Эргунэ-куне в жанровом отношении является исто- рическим преданием, в котором на реальную историю предков монголов с целью подчеркнуть трудности становления монгольского этноса наложены мифологические представления в виде расплавки рудосодержащей горы огнем, раздуваемым кузнечным мехом. Наличие этих представлений указывает на очень давнее происхождение предания. О том, что изложенное Рашид-ад-дином повествование действительно является преданием, свидетельствуют ссылки автора на информаторов, от которых оно получено («имеется рассказ, [передаваемый со слов] заслуживающих доверия почтенных лиц...»), связь содержания с конкретными локусами (степь между горами, называвшаяся Эргунэ-кун; стекающая с горы быстрая река Киян), приуроченность текста к определенным событиям («над монголами одержали верх другие племена и учинили… избиение») и лицам (Бортэ-Чино – первопредок и вождь вышедших из Эргунэ-куна монголов) [Рашид-ад-дин, 1952, кн. 1, с. 153, 154; кн. 2, с. 9]. Перечисленные особенности, присущие повествованиям исторического порядка, обычно рассматриваются как жанрово-структурные признаки предания [Свод…, 1991, с. 104].
Аргументы в пользу монгольского происхождения предания об Эргунэ-куне
Реалистичность предания о бегстве предков монголов в малодоступную местность Эргунэ-кун, после того как «случилась распря с другими тюркскими племенами», закончившаяся «сражением и войной», ярко подтверждают результаты полевых исследований, нацеленных на поиски данной местности на северо-востоке Китая. Инициированная и организованная мною международная экспедиция состоялась в 2004– 2006 гг. Было установлено, что на севере городского округа Хулун-Буир, на месте соединения р. Эргунэ (Аргуни) и ее притока Цзилюхэ, между поросшими глухой тайгой горами есть сравнительно небольшое ровное степное пространство, которое по характерным особенностям окружающего рельефа, топонимии, имеющимся археологическим памятникам однозначно идентифицируется как Эргунэ-кун (подробно об этом см.: [Зориктуев, 2011, с. 37–48]).
Последовательный анализ предания об Эргунэ-куне, проведенный на основе собранного в Китае полевого материала, не дает ни малейшего повода усомниться в его реалистичности. Это в полной мере соответствует жанру предания, представляющего собой средоточие исторической памяти народа. В данной связи особый смысл приобретает сообщение Рашид-ад-дина о том, что в его время были монголы, которые знали и видели Эргунэ-кун, по их словам, хотя «это место [для жизни] тяжелое, но не до такой степени, [как говорят]…» [Рашид-ад-дин, 1952, кн. 1, с. 154]. Следовательно, в XIII в. монголам было хорошо известно местонахождение их первоначальной родины на р. Эргунэ. Приведенное сообщение автора «Сборника летописей» в совокупности с другими данными, свидетельствуя не только о реалистичности, но и бесспорно монгольском происхождении предания об Эргунэ-куне, показывает очевидную бесперспективность поиска этого топонима и обозначаемой им местности в иных районах Азии.
Заключение
Результаты анализа дастана «Эргенекон» не подтверждают версию о его тюркском происхождении. Жанровые особенности сказания убедительно свидетельствуют о том, что оно представляет собой один целиком заимствованный из труда Абу-ль-Гази (частично из сочинения Хондемира) сюжет, который после соответствующей переработки принял форму дастана и был включен в фольклор тюрков. Если бы дастан «Эргенекон» существовал у тюрков в домонгольское время, то хотя бы отдаленные глухие известия о нем должны были содержаться в достаточно обширной средневековой тюркской литературе. Однако они не выявляются, также как не обнаруживается в источниках ни одного упоминания топонима Эргенекон в системе Алтайских гор. Если бы он существовал на Алтае в прошлом, то был бы известен там и сегодня.
Судя по всему, слова э ргенекон никогда не было в тюркских языках, о чем говорит его отсутствие в известных словарях. Не случайно Н. Келимбетов, пытаясь узнать его значение, не сделал ни одной ссылки на источник. Он стремился не столько вывести семантику слова путем его структурного анализа, сколько вложить ее в топоним в виде общего описания зажатой крутыми хребтами узкой долины, приведенного в да-стане «Эргенекон». Но поскольку значение лексической единицы подобным образом не устанавливается, содержание этого топонима как было, так и остается невыясненным. Ситуация усугубляется тем, что исследователи пытаются этимологизировать неверно реконструированное слово в форме эргенекон , что, разумеется, обречено на неудачу. Впрочем, в любом случае определение семантики названия Эргенекон – занятие совершенно бесполезное, т.к. этот топоним и связанный с ним дастан были тюрками заимствованы.
Сторонники версии тюркского происхождения да-стана «Эргенекон», утверждая, что сюжет произведения был заимствован монголами у тюрков, не предъявляют никаких доказательств того, когда и каким образом это могло произойти. При построении своей гипотезы они не проводили объективный и всесторонний анализ имеющегося в «Сборнике летописей» предания об Эргунэ-куне. Если бы такое исследование было осуществлено, то они убедились бы в том, что приведенное Рашид-ад-дином сказание было создано монголами и охватывает их раннюю историю. Оно основано на реально произошедших событиях и лишено каких-либо признаков заимствования. Содержащиеся в предании об Эргунэ-куне взаимосвязанные данные, подтверждаемые материалами китайских и других источников (сложный топоним Эргунэ-кун состоит из названия р. Эргунэ и слова кун, в древнемонгольском языке означавшего высокое плато с крутыми склонами; артефакты эпохи династии Тан; гидроним Мангу и этноним мангол; местность Шивэй и этнический термин мэнъу шивэй и т.д.), позволяют утверждать, что выявленная в результате изысканий на северо-востоке Китая местность на правом берегу Эргунэ с высокой долей вероятности и есть тот самый Эргунэ-кун, где укрылись предки монголов после разгрома тюркскими племенами в начале второй половины I тыс. н.э. Там по соседству с шивэйскими племенами на базе сохранившегося жужаньского этнокомпонента началось формирование нового монгольского этноса. Эргунэ-кунский период является важнейшим этапом в этнической истории монголов.
Список литературы Тюркская версия происхождения предания об Эргунэ-Куне: ошибки и заблуждения
- Абулгачи-баядурхан. Родословная история о татарах. - СПб.: Имп. Акад. наук, 1768. - Т 1. - 483 с.
- Билэгт Л. Гипотеза о времени ухода монголов в Эргунэкун // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. - Новосибирск: Наука, 1993. - С. 106-113.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - Т 1. - LXXXVI, [2], 380, [4] с.; 2 л.
- Большая советская энциклопедия. - 3-е изд. - М.: Сов. энцикл., 1972. - Т 7. - 608 с.
- Зориктуев Б.Р Актуальные проблемы этнической истории монголов и бурят. - М.: Вост. лит. РАН, 2011. - 278 с.