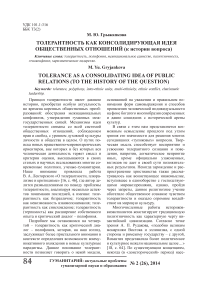Толерантность как консолидирующая идея общественных отношений (к истории вопроса)
Автор: Грыжанкова Марина Юрьевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению проблемы, связанной с необходимостью глубокого осмысления культуры России, исторически сформировавшейся под воздействием религиозных взглядов и устоев, являющихся важнейшими областями социально-гуманитарного знания. На сегодняшний день ясно представляется, что без осознания их значимости невозможно адекватное выстраивание дальнейшей стратегии развития российского общества.
Толерантность, полифония, межнациональное единство, полиэтничность, этноконфликт, харизматическое лидерство
Короткий адрес: https://sciup.org/14720823
IDR: 14720823 | УДК: 101.1:316
Текст научной статьи Толерантность как консолидирующая идея общественных отношений (к истории вопроса)
Принцип толерантности имеет давнюю историю, приобретая особую актуальность во времена коренных общественных преобразований: обострения межнациональных конфликтов, утверждения гуманных межгосударственных связей. Механизмы идеи толерантности связаны со всей системой общественных отношений, соблюдением прав и свобод, с уровнем духовной культуры личности и общества в целом. О путях поиска новых нравственно-мировоззренческих ориентиров, вне которых и без которых вся человеческая деятельность теряет смысл и критерии оценки, высказываются в своих статьях и научных исследованиях многие современные политики, ученые-гуманитарии. Наше внимание привлекла работа В. А. Лекторского «О толерантности, плюрализме и критицизме» [16, с. 46], где автор делится размышлениями по поводу проблемы толерантности, анализируя несколько аспектов понимания последней, а именно: толерантность как безразличие; толерантность как невозможность взаимопонимания; толерантность как снисхождение; толерантность (терпимость) как расширение собственного опыта и критический диалог – полифония.
Подробнее мы остановимся на четвертой – толерантность как критический диалог – полифония, которая, на наш взгляд, заслуживает более пристального внимания в контексте определения возможности коммуникативного вхождения в новые культурные парадигмы. Данное понимание толерантности позволяет говорить о некой модели, основанной на уважении и правильном понимании форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности на фоне богатого многообразия современных и давно сошедших с исторической арены культур.
В связи с этим нам представляется возможным осмысление прошлого под углом зрения его значимости для решения многих сегодняшних «тупиковых» вопросов. Творческая мысль способствует восприятию и усвоению толерантного сознания и поведения, напротив, догматическое неприятие иных, кроме официально узаконенных, взглядов не дает в своей сути положительных результатов. Некогда зарождение и распространение христианства также рассматривалось как воинствующее инакомыслие, вступившее в единоборство с господствующими мировоззрениями, однако, пройдя через запреты, данное религиозное учение обогатило общественное сознание чувством толерантности и оказало огромное воздействие на мировую культуру.
Многочисленные работы историков-византинистов констатируют традиционную полиэтничность как характерную черту византийской цивилизации. Согласно точке зрения А. П. Рудакова, «подобно великим монархиям Востока и эллинизма, с одной стороны и римскому государству – с другой, Византия представляла более политическое и культурное нежели национальное целое…» [18, с. 64]. По существующим концепциям, некогда (в «доисторический» период) насе- ление Западной Европы являло собой «кипящий котел», в «котором сваривались воедино самые разные этносы и расы» [15, с. 50]. Своеобразие Византии, а позднее и России, состояло в том, что такие котлы они представляли собой уже позднее, в «историческое время». По утверждению Гердера, для которого была неприемлема многоплеменная направленность Византии, где в течение нескольких веков шли активные иммиграционные процессы, в основу трагедии Византии легла именно та злосчастная путаница, которая бросила в один «кипящий котел» и варваров, и римлян.
Итак, ранняя Византия представляла собой неограниченную монархию с элементами конституционных начал, сильную государственной традицией. Политическая идея империи – «священная держава» вмещала в себя религиозные государственные и культурные ценности. При этом она состояла из трех конгломеративных компонентов: антично-эллинистических традиций, римской государственности и христианства. Кризис, охвативший все сферы жизни Римской империи, поставил перед византийскими императорами в IV в. задачи создания таких экономических, социальных, политических, духовных институтов, которые способствовали бы не только нахождению способов восприятия новых этнографических элементов, но и ставили бы варваров в такое положение, когда они с наибольшей пользой могли служить целям империи, главной задачей которой было установить с варварами более или менее спокойный род сожительства, соседства или союза. Таким образом, византийская многоплеменность оказывалась одним из факторов, укреплявших ту социальную нестабильность, которая была характерна для империи и содействовала сохранению государственного централизма.
Процесс интенсивного смешивания народов, преодоления антропологической определенности как единственного признака этнической принадлежности происходил в соответствии с христианской максимой («нет ни эллина, ни иудея»), что оказало решающее влияние на симбиоз западной и восточной культур. Ранневизантийский этнос в большей степени являл собой религиознокультурную, нежели племенную, общность.
Вследствие этого любой человек, исповедующий христианство, мог занять в империи высшую ступень в социальной иерархии: так, император Лев III Великий (VIII в.) был сирийцем, Роман I Лакапин (X в.) – армянином, патриарх Константинопольский Филофей (XIV в.) – евреем и т. д.
Иначе говоря, фактическое равноправие в гражданских правах, возможность возвышения представителей всех этнических групп смягчало опасность возникновения масштабных этноконфликтов. Внутри ортодоксального вероисповедания этнические группы нередко сохраняли свои обычаи, языковые особенности, хозяйственные и культурные традиции, известную административную обособленность. Эта «демократическая настроенность» [14, с. 69] способствовала тому, что в Византии длительное время существовал принцип вертикальной подвижности: отсутствие сословной корпоративности и «открытость» правящей элиты, доступ к которой обусловливался не наследственными, а личными достоинствами человека.
Итак, следует особого выделить такой принцип политического правления в ранней Византии, как отсутствие династической традиции. Эта тенденция намечена уже в позднеримский период, когда императоры, по мысли Аверинцева, сплошь и рядом приходили к трону именно ниоткуда из полной безвестности. Можно утверждать, что новоевропейская монархия культивировала пафос династической идеи, византийская же монархия искала идейные основания. Власть императора (василевса) не была ограничена никакими условиями, никакими «общественным договорами». Характерной особенностью власти было то, что она не являлась привилегией того или иного аристократического рода и потому не наследовалась сыном императора.
Кроме того, процесс сопровождался и появлением в высших военных, административных, гражданских структурах представителей разных этнографических народов, входящих в состав империи. В этом сказывались особенности византийского законодательства. В нем отсутствовал законно установленный порядок престолонаследования, что открывало путь к императорской короне людям честолюбивым. В связи с этим возможно допущение, что в этом крылось некое противоречие власти. С одной стороны, ва-силевс, казалось бы, всевластен, с другой – половина византийских императоров была насильственно лишена престола: одни из них отравлены, утоплены, ослеплены, других заточили в монастырь. В этом сказывалась непрочность самой монархии.
Отсутствие принципа наследования монаршей власти, по нашему мнению, восходит к Платону, согласно которому тленная вещь участвует в нетленной идее. Ромейский император хотел быть не природным, «не законным» а скорее «сверхприродным» государем. Подражание Богу небесному объявлялось первейшей обязанностью императора и потому весь ритуал дворцовой жизни должен был быть напоминанием о таинственной связи между василевсом и занебесной сферой, миром идей Платона.
Космоцентрические идеи прилагались к титулу василевса, а вместе с ними и эпитет «солнце». В то же время при культе императорской власти ей была присуща показная униженность. А. П. Каждан пишет: «Облаченный в шелковый плащ с жемчужными нитями, император держал в руках не только «державу» – символ земной власти, но и акакию – мешочек с пылью, напоминающий о бренности всего сущего» [14, с. 85].
Есть необходимость обратить внимание и на такой аспект теоретического обоснования абсолютистской власти, как оценка ее с этической точки зрения. По мысли Аверинцева, здесь проявлялось влияние христианства. Действительно, одним из первейших достоинств императора провозглашалось христианское благочестие, усердие в вопросах веры, филантропия, милосердие. Однако все эти качества во многом представляли собой старые добродетели полисного мира. Эллинские традиции, связанные с учением Сократа, Платона в особенности, предписывали требования к главе государства – обладать персональной мудростью «в союзе с философией», быть верным важнейшим добродетелям – справедливости, благу, мужеству. Можно сказать, что образ правителя сравнивался с философом, олицетворялся с мудростью, тем самым его власть основывалась на фундаменте культуры.
Политические традиции императорской власти и государственности Византии восходят к эллинистическим учениям Платона, неоплатоников, автократии Александра Македонского. В число эллинистических добродетелей, прилагаемых к эллинистическим монархам, входило требование «разумности» их правления, которая связана с концепцией «общего блага» подданных, государства как одной из важнейших целей и задач правления. В эллинистических монархиях продолжались полисные традиции и связи государственности, культа и культуры. В этой связи речь идет о роли культурного единства как фактора политического. Территориальный ойкуменизм дополнялся общностями, связанными с единством языка, мировоззрения, идейных ориентаций.
Еще один источник традиций императорской власти и государственности Византии восходит к римской концепции государства как вечной постоянной и неделимой ценности – концепция «вечного Рима», более жесткая, чем идея всеобщего порядка эллинистических монархий. Эта традиция была более демократической по сравнению с эллинистическими монархиями, но более авторитарной, чем традиции эллинских полисов. Со времен Константина одерживает победу римская государственная традиция, давшая византийцам право и основание рассматривать себя как преемников Рима, а не Востока и даже не эллинистических монархий.
В данном контексте можно предположить, что был осуществлен исторический эксперимент социального опыта согласования романизма, эллинизма с началами, воспринятыми от новых народов. В основу этого эксперимента в первую очередь закладывалась национальная терпимость (толерантность), способствующая:
во-первых, восприятию новых этнографических элементов, что определило оригинальный характер развития искусств, появление новых мотивов, с принципом доминирования «небесного над земным», сформировавшего своеобразный метод познания, находящий свое отражение в специальных образах, символах, архетипах;
во-вторых, проявлению особого типа государственных отношений, которые основывались на межнациональном единстве, подчиняющемся безоговорочному и всеоб- щему приоритету нравственных критериев оценки.
В связи с этим вопрос об эффективности византийской этнической политики с точки зрения интересов империи следует оценивать положительно. С помощью иноплеменников империи удалось восстанавливать экономику, военный и демографический потенциал, а гибкость и терпимость по отношению к ним позволяли удерживать как единое целое в этническом отношении организм, каким была Византия, не давая ему распасться. При этом византийская этническая политика при ее общей тенденции наиболее полно приобщить иноплеменников к жизни в империи была разной в применении к разным народам. Для каждого нового этноса, включенного в состав империи, как бы создавалась новая модель интеграции, поскольку изначальные условия для нее тоже были различными.
Византийской общественной мысли была свойственна совершенно особая конструкция, отвечавшая традициям раннехристианского демократизма. В последующие столетия византийская церковь отличалась от западной меньшей централизованностью, так как носителем принципа централизованности здесь было государство. Источником церковного права на Западе было толкования римского папы, а в Византии – постановления соборов. Один из элементов централизации проявлялся в том, что богослужение на Западе велось исключительно на едином – латинском языке, а Константинополь не запрещал служб на местных наречиях: коптских, славянских, грузинских и т. д.
Данный феномен объясняется тем, что в ранневизантийскую эпоху (IV–VII вв.) основной парадигмой формирующейся национальной идеи (менталитета) была христианская религия, православное миропонимание, составляющее духовно-практическую основу социальной жизни этого государства. По этому поводу Л. Н. Гумилев в одной из работ замечает: «Византийский суперэтнос вылупился из яйца христианской общины, социальным обрамлением которой была церковная организация» [11, с. 33]. Этносоциальное самоопределение «православной цивилизации» шло одновременно с отвержением «латинского» образца мировоззрения.
В этом смысле религиозная этнопсихологическая доминанта определяла отношение внутри государства. Христианскому пониманию единства рода человеческого соответствовало понятие о всеобщности человеческой истории. Если Античность исходила из локальных образований – отдельный народ, город и т. д., то христианство обнаруживало единую цель исторического процесса – движение мира к Преображению. По этому поводу в начале Х в. высказывался константинопольский патриарх Николай Мистик, характеризуя Византийскую империю как общину, все жители которой связаны общностью судьбы.
Подобное понимание идеи толерантности в ранневизантийском государстве предполагает анализ некоторых логических элементов структуры византинизма как определенной совокупности духовных и культурных коррелят, что позволит увидеть проблемное поле исследования исключительно в многогранности и сложности связей между личностью и обществом, где человеческая деятельность рассматривается как живая ткань формирования общества.
В связи с этим представляется разумным акцентирование внимания на личности первого христианского императора Константина. Это обусловлено, во-первых, политикой «практической толерантности», которую с первых дней правления проводил первый христианский император; во-вторых, необходимым осмыслением тех культурных явлений позднейшей европейской истории, которые либо генетически восходят к той эпохе, подобно концепции «христианской монархии» в политико-правовой мысли, либо имеют некоторое типологическое сходство с социо-культурными феноменами того времени.
Итак, период, начавшийся с Константина Великого, по мнению Н. Бердяева, знаменует, во-первых, новый этап в развитии христианства; во-вторых, новый виток социальных отношений между Царством Божиим и царством кесаря [5, с. 34].
Первый шаг Константина-политика был ознаменован Миланским эдиктом, ставшим одним из узловых моментов взаимоотношений христианского императора и христианской церкви. Византийское право той эпохи выработало немало новых частноправовых норм, в известной мере опиравшихся на обычное право этнически пестрого населения империи, что обеспечило ему в будущем большую жизнеспособность [19, с. 33].
Несмотря на существование среди ученых точки зрения касательно недоверия к самому факту существования документа, мы склонны придерживаться на этот счет иного мнения, исходя из отсутствия аргументов, опровергающих данный факт. Концептуальную направленность Миланского эдикта, провозглашенного как логическое следствие предшествовавшему ему указу Галерия (311 г.) о прекращении гонений на христиан и построенного на принципиально новой основе, можно уже отнести не только на счет причин политического характера, но и личной веры императора в то, что в свободном состязании истинное учение победит ложное. И здесь необходимо учитывать следующие обстоятельства: провозглашая христианство религией равноправной с другими, государство брало его под защиту, тем самым, признавая за христианской общиной факт юридического лица, что давало возможность ранее гонимой религии, занять прочное общественное положение. Христиане, три века гонимые за отказ воздать Божие кесарю, признали власть кесаря – безоговорочно признающего над собой власть Бога. Это явилось основным принципом подчинения ранневизантийцев василевсу.
В результате христианство перестало быть эсхатологическим, а становится историческим, тем самым приспосабливаясь к деятельности в мире. По замечанию К. Ясперса, «…христиан-ская религия, начиная с правления Константина, становится основой Римской империи» [21, с. 83]. В конце концов, эти два понятия оказались сцепленными в единую систему социальной и политической ортодоксии, вследствие чего Римская держава трансформировалась в христианскую. При этом союз государства и церкви скреплялся доктриной о божественном характере власти византийских василевсов и богоизбранности христианской империи.
Итак, впервые был осуществлен союз цезаризма и христианства, и два полюса византийской общественной психологии необходимым образом стали дополнять друг друга. Характерны в этом контексте строки византийской поэтессы IX в. Кассии, в которых акцентируется внимание именно на этом союзе, а между строк читается противопоставление языческой религии, связанной с именами императора Августа, в правление которого родился Христос; Диоклетиана, вознамерившегося в корне задушить проблему раздела власти между правительством и церковью, и Константина, осуществившего союз с церковью, как ее «внешний епископ».
Мы склонны придерживаться точки зрения, что, вероятнее всего, действия Константина были глубоко провиденциальными и имели положительный смысл в мировой истории. Именно Константин являл собой на все византийское тысячелетие образец «благоверного государя». Слава этого государя заключается в том, что он оправдал название, которое начертал на своей триумфальной арке: quietis custos («страж покоя»).
Естественно, что жизнь и деятельность императора Константина возбуждала сильный интерес у современников и до сих пор продолжает привлекать к себе внимание многих исследователей. Оценки этой личности давались самые разнообразные и чаще всего зависели от взглядов авторов на христианство в целом. Так, французский историк Буасье (G. Boissier) пишет: «…когда мы имеем дело с великими людьми, и пытаемся изучить их жизнь, то мы с трудом удовлетворяемся самыми естественными объяснениями. Это случилось и с Константином: заранее составилось такое убеждение, что этот ловкий политик захотел нас обмануть, что, чем с большим жаром он предавался делам веры и объявлял себя искренно верующим, тем более пытались предполагать, что он был индиффе-рентист, скептик, который, в сущности, не заботился ни о каком культе и который предпочитал тот культ, из которого он думал извлечь наиболее выгоды» [7, с. 85].
По этому поводу у Гегеля есть любопытная мысль о том, что все государства были основаны благодаря возвышенной силе великого Человека, который имел в облике, поведении нечто такое, вследствие чего другие повинуются ему вопреки даже собственной воле. Их непосредственная чистая воля есть его воля. Преимущество великого человека состоит в том, чтобы знать и выражать абсолютную волю, все собираются под его знамя [9, с. 357].
Эти слова в полной мере можно отнести к Константину Великому как к харизматическому лидеру, ибо, исходя из современного методологического опыта изучения политических процессов, деятельность Константина можно отнести к харизматическому лидерству, которое базируется на исключительных качествах лидера, данных ему Богом для выполнения великой миссии. Власть при этом приобретает мистический, эмоциональнопсихический фактор, что наделяет лидера в глазах его последователей исключительными качествами мудрости, героизма, святости.
Размышляя над проблемой возможного влияния личности императора Константина на изменение хода мировой, отметим, что, начиная со времен Древней Греции и, до современности, среди философов, историков, социологов продолжается спор по поводу роли отдельных личностей и социальных групп в историческом процессе. На этот счет существует несколько точек зрения:
во-первых, древнегреческие историки Геродот и Фукидид утверждали, что всемирная история есть результат деятельности великих личностей. Эту идею позднее, в XIX в. развили английский философ Т. Карлейль и Ф. Ницше, считавшие, что историю делают «сверхчеловеки», деятельные натуры, которыми движет воля к власти и чувство вседозволенности, люди же в этом процессе являются бесформенным строительным материалом. Видимый аналог данной идеи выведен у Ф. Достоевского в теории Раскольникова «о тварях дрожащих и право имеющих»;
во-вторых, существует концепция элиты, согласно которой особый слой высокоодаренных людей творит историю, науку, культуру. Основоположниками этой теории считаются итальянский социолог и экономист В. Парето и итальянский политолог Г. Моска. Они утверждают, что общество делится на элиту (лучших) и неэлиту (остальных), причем элита выступает как движущая сила общественного развития.
Г. Моска в ходе создания своей теории исходил из деления общества на господствующее меньшинство и политически зависимое большинство. Кроме особого ряда причин, на основании которых он объяснял неизменность власти меньшинства над боль- шинством, Моска выделяет некие особые качества, в результате чего оно (меньшинство) пользуется почитанием и большим влиянием в обществе.
В. Парето предлагает для выявления причастности к элите применение классификационных методик по различным параметрам: по способностям в той или иной области деятельности, образованию, авторитету и т. д. Неизбежность деления общества на элиту и неэлиту Парето выводил из неравенства индивидуальных способностей людей. Индивиды, обладающие большим влиянием, богатством, знанием, образуют высшую страту общества – элиту. По мнению некоторых исследователей [12, с. 126], современные теории элиты включают в себя различные подходы, среди которых можно выделить следующие: ценностные, демократического элитаризма, плюрализма (множественности) и т. д. Нас в данном случае более интересуют именно ценностные концепции, применительно к точке зрения И. А. Ильина, который писал, что править государством должны именно лучшие, в смысле – элитарные, государственно-мыслящие, политически честные, организационно-даровитые [13, с. 128].
Наряду с концепцией элиты, следует отметить еще одну точку зрения, которая, на наш взгляд, более реально отражает сущность исследуемой проблемы: история творится не только отдельными выдающимися личностями (элитой), но и другими людьми, ибо каждый человек – субъект истории и творец ее.
В связи с личностью императора Константина и его ролью в истории ранней Византии нам представляется оправданным обращение к теориям политического лидерства, а именно к типологии, предложенной немецким социологом М. Вебером, где дается обоснование харизматического лидерства, основанного на вере в исключительные способности, а в качестве харизмы выступает качество личности, признанное необычайным, благодаря которому она оценивается как наделенная сверхъестественными или, по меньшей мере, особыми силами и свойствами, недоступными другим людям. Благодаря этому личность воспринимается как посланная Богом.
Согласно Веберу [8, с. 142], харизма является великой преобразовательной силой в эпохах, связанных с устойчивыми традициями. Причем она может выступать как преобразование изнутри, означающее изменение главных направлений мышления и действия при полной переориентации всех установок ко всем отдельным жизненным формам и миру вообще. Харизматическое лидерство сугубо личное, вследствие чего, если лидеру продолжительное время изменяет успех, или его руководство не приносит благополучия подчиненным, то его харизматический авторитет может исчезнуть.
Византийская империя, которую возглавил Константин, была основана на языческих традициях. Поэтому правящая элита в большинстве своем не разделяла мировоззренческих установок императора. Однако, осуждая в душе образ его мыслей, язычники не могли не признать несомненных достоинств его практической политики, а поскольку этот аспект деятельности находился на верхней оценочной ступени, отношение в целом к Константину было благожелательным. Это подтверждает высказанное ранее мнение по поводу харизматического авторитета власти византийского императора, который есть персонифицированная римская государственнополитическая идея, связанная с традиционной религией, ставшей духовным коррелятом абсолютистского государства, во-первых, благодаря моральной обособленности от этого государства, во-вторых, абсолютно не революционной сущности христианства, которое даже нельзя назвать социальной реформаторской силой, ибо его природа, по мнению Н. Бердяева, невыразима в социальных категориях мира сего [5, с. 32] и сводится к тому, что подлинно новая, более совершенная и лучшая жизнь приходит «изнутри», а не извне, от духовного перерождения, а не от изменения социальных условий и социальной среды.
В конце IV в. последовали политический кризис и крупномасштабные вторжения варваров, после чего в традиционной парадигме мышления языческой аристократии наступил некий негативный перелом, вызвавший процесс «поиска врага». Естественно, что поиск причины упадка велся не внутри традиционной структуры, а вне ее, что подраз- умевало возможность устранения внешней причины, которой в итоге было объявлено христианство. По мнению Зосима, крушение империи началось именно с Константина. Тем не менее, при всем негативном отношении к «первому христианскому императору», он не считает его истинным христианином. В русле традиционного миропонимания римских патриотов – язычников, для которых было свойственно олицетворение вечности «римской идеи», Зосим видит в действиях Константина определенный политический расчет. В этом наиболее четко проявляется специфика отношений римской аристократии к императору.
В противовес этому существует множество законодательных текстов, показывающих, что христианская империя, без каких-либо официальных возражений со стороны церкви, смотрела на императора как на образ Христа, поставленного для управления обществом и для его защиты. «Во имя Господа Иисуса Христа, – пишет император Юстиниан (527–565), – начинаем мы всегда каждое наше предприятие и действие. Ибо от Него приняли мы попечение о всей Империи… Он дает нам силу мудро управлять государством и твердо сохранять над ним нашу власть… А поэтому вручаем нашу жизнь Его провидению…» [17, с. 485].
Действительно, Церковь не пыталась ограничить власть императора в чисто политических делах. Однако, возвращаясь к материалу, изложенному в начале статьи, зададимся вопросом: правы ли историки, полагая, что система управления, принятая византийским государством и церковью, была системой «цезарепапизма»? Если это так, то, видимо, следует считать правомерным положение, что в средневековый период раннего византинизма Церковь действительно приняла второй тип эсхатологии, рассматривающий Царство Божие как явление и идеал, вполне однородные со светским историческим прогрессом. Для организации византийского общества был избран христо-логический образ, в котором соединены две природы, неслиянно и нераздельно, в единую ипостась. При этом общей целью империи и священства представлялось осуществление счастливого согласия (гармония), порождающего все блага для человечества.
Если же придерживаться мнения, что византийское общество избежало цезарепа-пизма, то основанием для этого служит не противопоставление императорам иной соперничающей власти (т. е. власти священства), но отнесение всей власти непосредственно к Богу. Этот теоцентричный взгляд на вселенную и Церковь хорошо выражен в классическом тексте на эту тему, а именно, шестой новелле Юстиниана: «Величайшим благословением человечества являются дары Божии, ниспосылаемые нам с небес по Его милосердию – священство и царство. Священство служит предметам божественным; царская власть главенствует над человеческими и о них заботится; но обе исходят из одного и того же…».
Таким образом, совершенно очевидно, что проблема толерантности не нова. Любая культура, несомненно, нуждается в ее разрешении на всех этапах существования, поскольку всецело единых культур не существует, но каждая представляет множество, собранное воедино. Пример тому – византийская цивилизация, многие традиции которой стали основой формирования отечественной государственности и духовности. Русское православие в некоторых аспектах существенно отклонялось от греко-византийского прототипа, что было связано с внедрением языческих элементов. Тем не менее основное направление мировоззренческих исканий в Древней Руси прослеживалось в русле именно византийской традиции, так как все более или менее существенные идейные движения на Руси были отражением и преломлением соответствующих движений Византии [10, с. 20].
Безусловно, перечисленные выше факторы нельзя назвать исчерпывающими, их гораздо больше, что предполагает отдельные исследования в этом направлении. Мы лишь намечаем пути к изучению проблемы, стоящей во весь рост перед современным человечеством, ибо вопросы веротерпимости, этнотерпимости являются острыми для каждого общества. Схожие мысли неоднократно высказывал Д. С. Лихачев применительно к отечественной культуре. Им подчеркивалось, что в ее составе ассимилировались десятки культур других народов Скандинавии, Византии, южных и западных славян, Германии, Италии, народов Востока и Кавказа, что, несомненно, сказалось на своеобразии мироощущения, мировосприятия российского человека, особых форм отечественной цивилизации, возникшей, по мнению В. С. Библера, на грани культур, «… или, – уточним, – на грани разных смыслов личности и предельных вопросов бытия…» через «общение культур как личностей» [6, с. 296].
По мнению И. Мейендорфа, в наше время идея «гармонии» между церковью и обществом стала неприменимой как практический образец политического строя. Более того, в византийском – по существу, утопическом идеале крылся духовный изъян: византийцы, как и весь средневековый мир, считали гармонию уже осуществленной, отождествляя земное царство с Царством Божиим, забывая при этом, что всякая государственная структура принадлежит как таковая к «миру падшему», не подлежащему абсолютизации и обожествлению. Поэтому византийская империя как политическая и культурная реальность никогда не разрешила двусмысленность притязаний.
Однако те концептуальные структуры, которые существовали в прошлом и в свое время сошли с исторической арены, не должны считаться несостоятельными во всех отношениях. В своей фундаментальной сущности они могут содержать идеи, являющиеся плодотворными для современных условий [1; 2; 3; 4]. Сегодня как никогда необходимо вести разговор о становлении новых форм человеческой личности в соответствии с изменением и переосмыслением проблематики человека в контексте таких диалогов, как Человек – История, Человек – Человек, Человек – Общество, ибо игнорирование проблемы толерантности повлечет за собой взаимное уничтожение не только этнических групп, но и разных цивилизаций. В связи с этим возникает прямая необходимость обращения к синтезу понятий «культура», «общество», «личность».
Список литературы Толерантность как консолидирующая идея общественных отношений (к истории вопроса)
- Арсентьев Н. М. Академическая и университетская гуманитарная наука в формировании общероссийской идентичности: региональная практика гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания//Интеграция образования. -2008. -№ 4. -С. 83
- Арсентьев Н. М. Мемориальная (монументальная) история в современном гуманитарном пространстве Республики Мордовия (о тысячелетии единения мордовского народа с народами Российского государства)/Н. М. Арсентьев//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2010. -№ 3. -С. 4-8
- Арсентьев Н. М. Идея единения народов в стратегии современной национальной политики Российской Федерации/Н. М. Арсентьев//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2012. -№ 2. -С. 6-11
- Арсентьев Н. М. Празднование Тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства как фактор формирования социальной памяти россиян/Н. М. Арсентьев//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2012. -№ 2. -С. 24-31
- Бердяев Н. А. Царство Божие и царство кесаря/Н. А. Бердяев//Путь. От 1.09.25. Репринт.: Информ-Прогресс. -1992. -С. 32
- Библер В. С. О культуре, об ее доминантах и еще -о цивилизации и здесь и теперь/В. С. Библер. -М., 1988. -С. 296
- Васильев А. А. Лекции по истории Византии/А. А. Васильев. -Петроград, 1917. -В 2 т. Т. 1
- Вебер М. Харизматическое господство/М. Вебер//Социологические исследования. № 5. -1988. -С. 139-147
- Гегель Г. Лекции по философии истории/Г. Гегель//Перевод Л. М. Водена. -СПб., 2-е изд., 1993. -С. 357
- Грыжанкова М. Ю. Наследие византинизма в контексте проблемы переосмысления нравственных ориентиров в современной России/М. Ю. Грыжанкова//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2013. -№ 4 (24) -С. 20-26
- Гумилев Л. Чтобы свеча не погасла/Л. Гумилев, А. Панченко. -Л.: Сов. писатель, 1990. -С. 33
- Изергина Н. И. Политическая элита в сб. лекций/Н. И. Изергина//Основы политологии под ред. Д. В. Доленко. -Саранск.: Изд-во Мордов. ун-та, 1996. -С. 169
- Ильин И. А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России/И. А. Ильин. -М., 1992. -В 2 т., Т. 1. -С. 127-131
- Каждан А. П. Византийская культура/А. П. Каждан. -СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 1997. -С. 69
- Кожинов В. В. История Руси и русского слова/В. В. Кожинов. -М.: Алгоритм, 1999. -С. 50
- Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме/В. А. Лекторский//Вопросы философии. -1997. -№ 11. -С. 46-54
- Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие/И. Мейендорф. -М.: Весть, 1992. -С. 485
- Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии/А. П. Рудаков. -СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 1997. -С. 64
- Удальцова З. В. Роль городов и городской культуры в культурном развитии ранней Византии/З. В. Удальцова//ВВ. -№ 46. -1986. -С. 33
- Успенский Ф. И. История Византийской империи VI -IX вв./Ф. И. Успенский. -М.: Мысль, 1996. -С. 16
- Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем./К. Ясперс. -М.: Республика, 1994. -С. 83