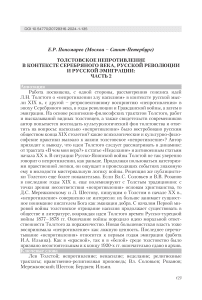Толстовское непротивление в контексте Серебряного века, русской революции и русской эмиграции: часть 2
Автор: Пономарев Е.Р.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена, с одной стороны, рассмотрению генезиса идей Л.Н. Толстого о «непротивлении злу насилием» в контексте русской мысли XIX в., с другой - ретроспективному восприятию «непротивления» в эпоху Серебряного века, в годы революции и Гражданской войны, а затем в эмиграции. На основе религиозно-философских трактатов Толстого, работ и высказываний видных толстовцев, а также свидетельств современников автор попытается воссоздать культурологический фон толстовства и ответить на вопросы: насколько «непротивление» было востребовано русским обществом конца XIX столетия? какие психологические и культурно-философские практики вызвало к жизни толстовское «непротивление»? Автор приходит к выводу, что идеи Толстого следует рассматривать в динамике: от трактата «В чем моя вера?» к статье «Неделание» и антивоенным статьям начала XX в. В ситуации Русско-Японской войны Толстой не так уверенно говорит о непротивлении, как раньше. Продолжая пользоваться категориями нравственной логики, он ощущает в происходящих событиях знакомую ему в молодости мистериальную логику войны. Рецепция же публицистики Толстого еще более показательна. Если Вл.С. Соловьев и В.В. Розанов в последние годы XIX в. еще полемизируют с Толстым традиционно: с точки зрения несоответствия «непротивления» основам христианства, то Д.С. Мережковскому и Л. Шестову, пишущим о Толстом в начале XX в., «непротивление» совершенно не интересно: их больше занимает сущностное понимание писателем Бога как эманации добра. С началом Первой мировой войны толстовское отрицание насилия продолжает существовать в обществе и литературе, возрождая идеи Толстого времен Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Окончание войны породило идею моральной ответственности Толстого за пораженчество. Новая большевистская власть тоже воспринимала «непротивление» как ложную ценность. Последнее перечитывание «непротивления» относится к первым годам эмиграции (работа И.А. Ильина). Как в «красной», так и в «белой» среде толстовство было признано несостоятельным и к концу 1920-х гг. окончательно сдано в архив.
Лев толстой, непротивление, ненасилие, неделание, религиозные трактаты, нравственно-религиозная проповедь, вл. соловьев, розанов, мережковский, шестов, бердяев, ильин
Короткий адрес: https://sciup.org/149145242
IDR: 149145242 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-135
Текст научной статьи Толстовское непротивление в контексте Серебряного века, русской революции и русской эмиграции: часть 2
Эпоха Серебряного века предложила новое восприятие русской классики. Манифест русского символизма «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», написанный Д.С. Мережковским в самом начале 1890-х гг., был, по сути, радикально новой версией истории русской литературы XIX в. Приступив к переосмыслению (еще далеко не завершенного) творчества Л.Н. Толстого уже в начале этой работы, Мережковский закончил его десять лет спустя большим сочинением «Л. Толстой и Достоевский» (1900–1902). Впрочем, перечитывание Толстого в новых контекстах характерно не только для культуры символизма, но и для всей новаторской мысли Серебряного века. О перечитывании модернизмом классической русской литературы, а также переписывании классических сюжетов см. работы Д.М. Магомедовой [Магомедова 2000], [Магомедова 2018]. Особый интерес представляет восприятие толстовского ненасилия в этом контексте.
Мы не будем останавливаться на всех сочинениях о Л.Н. Толстом, созданных в эпоху Серебряного века, – в пределах статьи это практически невозможно. Нашей задачей станет выделение репрезентативных текстов о Толстом, демонстрирующих новый взгляд на непротивление на фоне готовящегося и разворачивающегося насилия Первой мировой войны, революции и Гражданской войны.
Начнем со статьи В.В. Розанова «Еще о гр. Л.Н. Толстом и его учении о непротивлении злу» (1896). Согласившись с тем, что стих из Нагорной проповеди «Не противься злому» должен быть по-настоящему важен для христианина, Розанов отмечает, что в преходящем мире не может быть заповедей, имеющих абсолютное и непреходящее значение. Иными словами, Розанов объединил традиционную критику толстовства (абстрактная мораль, неисполнимая в быту) с относительным принятием ненасилия (насилия не следует допускать в обычных ситуациях; но, когда зло всерьез поднимает голову, насилие необходимо применить), указав при этом на диалектическую сложность его применения. В 1903 г. Розанов выступил на Религиозно-философских собраниях с речью «Христос – Судия мира», в которой напомнил о насильственных поступках Иисуса – например, изгнания торгующих из храма. И.И. Евлампиев и И.Ю. Матвеева полагают [Евлампиев, Матвеева 2020, 170–173], что эту диалектичность ощущал и сам Л.Н. Толстой и развил свои первоначальные идеи в трактате «О жизни» (1888), противопоставив друг другу жизнь низшую, эгоистическую – и высшую форму жизни, во имя блага других людей. Соответственно, непротивление становится реальной моделью поведения только на высшем уровне. Нам же кажется, что здесь трудно видеть какое-то развитие мысли Толстого. Разделение людей на две большие группы (живущих во имя собственного блага – и ищущих смысл жизни, «жизнью для духа» и «жизнью для брюха», как объясняет Левину Фоканыч) прослеживается в двух больших романах Толстого, написанных еще до религиозного перелома. Уже в трактатах «Исповедь» и «В чем моя вера?» подразумевается, что любой разумный человек должен пережить тот же перелом, что и Толстой. Таким образом, ненасилие – элемент изначального поведения неэгоистичного и разумного человека.
Критика толстовского непротивления присутствует в поздних работах Вл.С. Соловьева: «Оправдание добра» (1897) и «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1899). В отличие от Розанова и многих других, Соловьев считает непротивление, как и все толстовское вероучение, нехристианским – более близким буддизму, а, по сути, самодостаточным и замкнутым в себе, как всякое сектантство. Идея непротивления злу, по мысли Соловьева, основана на непонимании природы зла. А «Царство Божие» (которое, по мнению Толстого, уже присутствует «внутри нас») невозможно без победы над смертью. Подробно анализируя текст «Трех разговоров», А.Г. Гачева указывает на важность первой вставной новеллы, в которой генерал рассказывает об уничтожении четырех тысяч башибузуков огнем его батареи. Башибузуки с сатанинской жестокостью вырезали армянское село, поэтому бой с ними превращается в «ристалище правды» [Гачева 2010, 60], на артиллерийские снаряды нисходит Божье благословение, а 37 погибших православных воинов, положивших душу свою за други своя, генерал считает святыми. Обращаясь к князю-толстовцу, генерал уверяет, что совесть его чиста, и он хотел бы умереть тогда, чтобы вместе с 37 убитыми казаками войти в рай – в этом он не сомневается. Ощущения генерала свидетельствуют о живом присутствии благодати в человеческой истории, которая, по мысли Соловьева, представляет собой «соработчничество» Бога и человека [Гачева 2010, 60]. А «соработниче-ство» невозможно без активного вмешательства человека в борьбу со злом.
Розанов и Соловьев полемизировали с Толстым во многом в прежней системе координат – указывая на несоответствие его системы идей основам христианского мировидения, упрощение и подмену христианства. Русские символисты перестроили саму парадигму разговора о Толстом. Как заметил Н.А. Богомолов, Толстой самим своим существованием «мешал писать» (слова А.А. Блока) практически каждому из них [Богомолов 2012, 21]. Центральным событием, отразившим весь процесс переосмысления Толстого символистским сознанием, стала книга Д.С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (1900–1902). Мережковский судит о Толстом не по тому, что Толстым сделано, а по тому, чем Толстой мог бы стать, но не стал. Не стал он Учителем с заглавной буквы, помешала «неповоротливая тяжесть, грузность ума» [Мережковский 1914, XI, 5]. Толстой, по Мережковскому (и в этом его поддерживают практически все символисты и примыкающие к ним модернисты – например, Л.Н. Андреев) велик, но недостаточно – и стоит не на том религиозно-философском пути, по которому идут они и мог бы идти Толстой. Иными словами, им бы хотелось видеть Толстого-пророка, но Толстой не пророчествует или пророчествует не так.
В религиозных рассуждениях Толстого Мережковский местами видит откровенную пошлость, а по сути – попытку созидания особой версии христианства, в которой отсутствует Бог. Здесь Мережковский во многом следует за критикой Соловьева, но, в отличие от последнего, идея непротивления практически не интересует писателя-символиста. Он концентрируется на более общих (и более близких ему самому) вопросах: во-первых, на представлениях Толстого о сути учения Христа; во-вторых, на полнейшем табуировании плотского в этике Толстого. Если Толстой считает сутью христианства стих «Не противься злому» – и многие прежние критики Толстого в целом с этим соглашались, то для Мережковского эта фраза – одна из не самых важных частностей христианской веры. Как, впрочем, и вся система человеческой нравственности – это лишь сфера применения веры и божественной мудрости. Пытаясь отождествить религию и нравственность, Толстой, указывает Мережковский, вынужден подменять понятия, переворачивая причину и следствие: «Не человеческая нравственность освящается Богом, а Бог освящается человеческою нравственностью; не добро для Бога, а Бог для добра» [Мережковский 1914, XI, 207].
Объясняя учение Христа, продолжает Мережковский, Толстой апеллирует не к высшей мудрости, а к здравому смыслу: как сказано в трактате «В чем моя вера?», Христос учит людей не делать глупостей. Все, что в христианстве не укладывается в рамки здравого смысла и личной этики, Толстой игнорирует. Например, догмат о святой Троице Толстому не нужен, потому что, во-первых, мистический смысл не поддается здравому смыслу, а во-вторых, из него нельзя вывести никакого нравственного правила. Умаление христианства до исключительно прагматического употребления, считает Мережковский, не может привести ни к утешению, ни к подлинной нравственности, потому и приходится Толстому убивать Анну Каренину, а в случае с воскресением Дмитрия Нехлюдова откровенно лгать. По мнению Мережковского, Толстой более всего приближается к Богу живому, когда дает героям высказать свои предсмертные мысли, в них моральный педантизм обращается диалектизмом подлинной веры. Что-то важное открывается и Андрею Болконскому и Анне Карениной в предсмертные минуты, но осознать эти откровения Толстой не может. Его бог – бог языческий:
И добро есть зло, и любовь есть ненависть, и сладострастие есть жестокость. Нет Бога, нет Отца: Бог не «Он», а Оно – то «огромное, неумолимое», что «толкнуло ее в голову и потащило за спину» под колеса железной «машины». У такого Бога нет милосердия, а есть только железный закон правосудия, закон необходимости: «Мне отмщение, Аз воздам» [Мережковский 1914, XII, 235].
Редукция и табуирование плотского начала в толстовстве и позднем творчестве Толстого оказываются, с этой точки зрения, частью общей аскетической морали, предложенной писателем-проповедником человечеству. Эта тема особенно интересует Мережковского, поскольку он считает умаление плоти одним из важнейших исторических грехов христианства, который следует преодолеть. Толстой же, с его точки зрения, пытается вернуть христианскую мораль во времена средневекового фанатизма, сделав ее еще жестче: если средневековые схоласты все же признавали необходимость деторождения, то Толстому и оно не кажется необходимым («Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому?» – цитирует Мережковский слова Позднышева). Он в своем моральном педантизме готов вовсе запретить плотскую любовь, оставив одну духовную.
«Непротивление» и «неделание» (если развить рассуждения Мережковского) оказываются такими же ложными, перевернутыми понятиями, как нравственность и Бог. Непротивление механически подменяет собой христианское смирение и «любовь к врагам», переводя диалектические философские категории в область моральных предписаний. «Неделание» как полная отмена обыденной жизни равносильна полной отмене плотской любви и плотских удовольствий. Если монашеское «неделание» есть предпосылка «духовного делания», то толстовское «неделание», по сути, агрессивно – направлено на перестройку материального мира с весьма сомнительными духовными перспективами.
Еще одно новое прочтение Толстого предложил молодой экзистенциализм. Лев Шестов в работе «Добро в учении графа Толстого и Ниц-ще» (1900) объединил двух новейших ниспровергателей традиционной нравственности (несмотря на то, что Толстой звал вернуться к Богу, а Ницше начинал своего «Антихриста» утверждением, что Бог умер), поскольку, с его точки зрения, оба подменяют Бога добром. Но ни абстрактное добро, ни конкретная любовь к ближнему не в состоянии заменить Бога: «Добро – братская любовь <…> не есть Бог. <…> Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога» [Шестов 1911, 187].
Если Мережковский строил свою критику Толстого на религиозной несостоятельности его учения, то Шестов акцентирует нарциссизм толстовского морализаторства – и примеры этого нарциссизма становятся ярким подтекстом критики идей. В «Мыслях, вызванных переписью» (1884–1886; другое название трактата: «Так что же нам делать?») Шестов отмечает момент, когда автор признается: ему было очень приятно давать милостыню, а еще приятнее от того, что другие это видят. Толстому, по мнению философа, нужны не сами нищие (он их очень скоро забыл во имя самосовершенствования), а абстрактная идея добра, ради которой он не только хочет искоренить нищету и перевоспитать всех нищих, ради нее он «уничтожает Анну Каренину, Вронского, Кознышева, всю интеллигенцию, искусство, науку...» [Шестов 1911, 98]. Абстрактная идея добра, априори названная Богом (ни в одном священном тексте нет такого прямолинейного отождествления), позволяет Толстому клеймить всех, кто думает не так, как он. Все, что не укладывается в его «добро», объявляется ненужным – от общественной жизни до науки и искусства (начав «Мыслями, вызванными переписью» Шестов завершает анализ идей Толстого трактатом «Что такое искусство?»). Все, кто не согласен с его пониманием Бога, объявляются язычниками. Добро, полагает Шестов, интересует Толстого мало, ему важнее роль проповедника.
Если с этой точки зрения посмотреть на «непротивление злу насилием» (на котором Шестов, как и Мережковский, не останавливается специально, не комментирует и даже не упоминает), получается, что эта установка нужна Толстому не сама по себе, а как взятое на себя право требовать от других людей исполнения их долга. Легкость мыслей, благодаря которой сомнительное утверждение превратилось в обязательный для исполнения норматив, дает Толстому неограниченные полемические возможности.
Почему ни Мережковский, ни Шестов не интересуются «непротивлением» и «неделанием»? Этот факт важен сам по себе, учитывая, сколько копий было сломано на «непротивлении» ранее. По-видимому, русская философская мысль новой эпохи смотрит на толстовство иными глазами: если вся теория Толстого исключительно риторична, то отдельные ее тезисы не представляют особой значимости. Поведенческие рецепты Толстого воспринимались всерьез людьми позитивистского века; символизм и экзистенциализм применяют к Толстому что-то вроде метода деконструкции, обнажая главные нестыковки и логические подмены. А после того, как теория рассыплется на отдельные тезисы, нет смысла обсуждать ни один из них.
Таким образом, многие деятели Серебряного века записали «непротивление» в разряд старомодных наивностей и перестали замечать. Отметим, что и авторы сборника «Вехи» (1909), неоднократно упоминая Толстого, совсем не комментируют «непротивление». Это не значит, что в начале XX в. интерес к Толстому и толстовству пропал. Новые статьи Толстого, постановление Синода об отпадении Толстого от церкви (1901), а затем смерть Толстого (1910) имели огромный общественный резонанс. Выходило значительное количество работ, рассматривающих толстовство с прежних, характерных для XIX столетия, позиций. Однако новая эпоха в целом формулировала проблемы иначе. Идея ненасилия получила политическую параллель – Гаагские мирные конференции (1899, 1907), созванные по инициативе Николая II. Речь на этих конференциях, предшествовавших новому уровню человекоубийства – мировой войне, – шла не о всеобщем прекращении войны, как хотелось бы Толстому (в 1896 г. он написал статью «Приближение конца» о голландце ван-дер-Вере, официально отказавшемся от военной службы, чтобы не защищать тот отвратительный общественный порядок, который существует. Таких случаев, полагал Толстой, в ближайшие годы станет значительно больше – по мере того, как бессмысленность войны будет осознаваться все большим количеством людей), а об установлении неких правил и ограничений на ведение войн. Между первой и второй конференциями произошла Русско-японская война. На начало этой войны Толстой отозвался статьей «Одумайтесь!» (1904).
Аргументация в антивоенной статье мало отличается от аргументов против судов и государственного насилия: все те приличные люди, которые никогда не убьют человека сами, призывают к убийствам, исполнять которые будут иные, подневольные люди. Как обычно, Толстой переводит разговор о крупном общественном явлении на уровень индивидуальностей – разбивая цельное общество на отдельные профессии (от императоров до журналистов), а затем подчеркивает безумие и безнравственность каждой конкретной работы по разжиганию войны. Важная коннотация – удаленность виновников войны от самой войны; они не видят плоды своих трудов и не в состоянии ужаснуться тому, к чему сами призывают. Другая важная коннотация – ложь во благо; все участники процесса хорошо знают, что лгут, однако полагают, что лгать непременно надо:
Совершается что-то непонятное и невозможное по своей жестокости, лживости и глупости.
Русский царь, тот самый, который призывал все народы к миру, всенародно объявляет, что, несмотря на все заботы свои о сохранении дорогого его сердцу мира (заботы, выражавшиеся захватом чужих земель <…>), он, вследствие нападения японцев, повелевает делать по отношению японцев то же, что начали делать японцы по отношению русских, т.е. убивать их; и объявляя об этом призыве к убийству, он поминает Бога, призывая Его благословение на самое ужасное в свете преступление. То же самое по отношению русских провозгласил японский император. Ученые юристы <…> старательно доказывают, что в призыве народов ко всеобщему миру и возбуждении войны из-за захватов чужих земель нет никакого противоречия. И дипломаты на утонченном французском языке печатают и рассылают циркуляры, в которых подробно и старательно доказывают, – хотя и знают, что никто им не верит, – что только после всех попыток установить мирные отношения (в действительности, всех попыток обмануть другие государства) русское правительство вынуждено прибегнуть к единственному средству разумного разрешения вопроса, т.е. к убийству людей. И то же самое пишут японские дипломаты. Ученые, историки, философы <…> оправдывают убийство христианами людей желтой расы, точно так же как ученые и философы японские оправдывают убийство людей белой расы. Журналисты, не скрывая своей радости, стараясь перещеголять друг друга и не останавливаясь ни перед какой, самой наглой, очевидной ложью, на разные лады доказывают, что и правы, и сильны, и во всех отношениях хороши только русские, а не правы и слабы и дурны во всех отношениях все японцы, а также дурны и все те, которые враждебны или могут быть враждебны русским – англичане, американцы, что точно так же по отношению русских доказывается японцами и их сторонниками» [Толстой 1936, 104–105].
Однако в данном случае у Толстого получается не так убедительно, как с судьей, который никогда бы лично не задушил преступника, приговоренного им самим к смертной казни. Возникает атмосфера всеобщего безумия (она формируется уже первым предложением), которая не может быть объяснена простым и логическим способом (а других толстовство не признает). Каждый из участников процесса стремится перещеголять соседа в безнравственности и лжи, при этом никого из них не беспокоит совесть, которая во всех остальных случаях (и в частной жизни каждого из них) работает исправно. Совесть почему-то отключается вместе с разумом строго на время войны:
Непосредственное чувство говорит людям, что не должно быть того, что они делают, но как тот убийца, который, начав резать свою жертву, не может остановиться, так и русским людям кажется теперь неопровержимым доводом в пользу войны то, что дело начато [Толстой 1936, 110].
Толстой останавливается там, где война превращается в языческую мистерию, массовое жертвоприношение, все участники которого – и убивающие и убиваемые – пьяны кровью. Тут, с толстовских позиций, следо- вало бы вести речь о том, как умеренное государственное насилие (вина государства и его «силового блока») путем идеологических манипуляций (вина интеллигенции) превращается в стихию агрессии и насилия (вина простого народа), которая неминуемо вырвется из-под управления тех, кто ее пытался использовать в собственных целях. Но стихия войны, которую Толстой еще в «Войне и мире» пытался объяснить геометрическими формулами, совершенно не дается школьной логике толстовства. Такие вещи куда ближе Мережковскому и поколению Серебряного века, опирающемуся на Ф. Ницше и ищущему забытые основы мистериального искусства. Некоторую помощь предлагает Толстому социальный подход:
Те, которые, бросая голодные семьи, идут на страдания и смерть, говорят то, что чувствуют: «Куда же денешься?». Те же, которые сидят в безопасности в своих роскошных дворцах, говорят, что все русские готовы пожертвовать жизнью за обожаемого монарха, за славу и величие России [Толстой 1936, 144].
Этим традиционным социально-нравственным расслоением (мужик обладает изначальным нравственным чувством, а власть имущие и богатые напрочь этого чувства лишены) Толстой пытается объяснить всеобщее безумие. Однако логическая натяжка в этом построении видна невооруженным глазом: далеко не все из призванных мужичков идут на войну вынужденно и с тяжелым сердцем. Многим эта перемена жизни дает новые шансы. Кому-то же просто нравится убивать. Не говоря о том, что мужички идут сражаться с Японией «за веру, царя и отечество», и все три элемента этой идеологемы им хорошо понятны.
В качестве конкретных дел Толстой вновь рекомендует «непротивление» и «неделание» (один из нравственных мужиков, которых писатель приводит в качестве примера, отказывается даже тянуть жребий во время призыва, но за него жребий вытянул староста и его все равно поставили в строй), однако не так уверенно и убежденно, как он это делал раньше. Рассудочное «ненасилие» бессильно против смерча войны. Война диктует свои правила, она равно беспощадна и к тем, кто им следует, и к тем, кто отказывается по этим правилам играть. Непротивленческий отказ, выход из игры в условиях войны теряет силу: выходящий из игры будет тут же уничтожен внутренними силами войны. Останавливает же войны не ужас перед убийством (напротив, убийство в условиях войны довольно скоро превращается в рутину), а полный разгром, как было с войсками Наполеона, или острое ощущение надвигающейся катастрофы – как случилось в ходе Японской войны. Статья Толстого, написанная еще в первые месяцы войны, уже отмечает первые признаки такого рода.
«Неделание» же в условиях военной эпохи выглядит у Толстого так:
Да когда же это кончится? И когда же, наконец, обманутые люди опомнятся и скажут: «да идите вы, безжалостные и безбожные цари, микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты, и как там вас называют, идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдем. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кормить вас же, дармоедов». Ведь сказать это так естественно теперь, когда у нас в России идет плач и вой сотен тысяч матерей, жен, детей, от которых отбирают их кормильцев, так называемых запасных [Толстой 1936, 143].
И здесь Толстой пытается остаться в рамках своей нравственной логики: если остановить войну невозможно, пусть воюют те, кто этого действительно хочет. Однако в мистериальной логике войны за этим рассуждением стоит более глубокий смысл: заменить на массовом жертвоприношении невинных жертв теми, кто всячески приближал войну. Толстой был одним из пионеров этой идеи. В скором будущем – в ходе обеих мировых войн – она не раз возникнет и в военной (антивоенной) публицистике и в беллетристике. И будет отчасти реализована на просторах развалившейся Российской империи. Возможность выйти какой-то части населения из вихря войны, оставив воевать тех, кому хочется, органически смотрится в системе толстовских умозаключений, но не подчиняется логике стихии. Стихия никого не отпускает просто так. Принести ей в жертву именно тех, кто по-настоящему виноват в создании войны, – означает не просто месть со стороны невинно убиенных, но уничтожение войны как таковой. «Непротивление» на уровне коннотаций, осознав собственное бессилие перед стихией насилия, трансформируется в собственную противоположность: последнего разового насилия во имя дальнейшего торжества всеобщего ненасилия. Идея последней войны – необходимой, чтобы в дальнейшем прекратились все войны, – сопровождала, как известно, обе мировые войны XX в.
Лев Толстой не дожил четырех лет до начала первой из них. Статью «Одумайтесь!» Толстому удалось напечатать в Англии, она имела успех по всей Европе (в России до 1906 г. опубликовать ее было невозможно). Если бы писатель написал новое «Одумайтесь!» в 1914 г., оно могло бы быть опубликовано разве что в США (до вступления в войну), поскольку в любой европейской стране военная цензура уже не пропустила бы антивоенный текст. Антивоенная толстовская риторика существенно повлияла на русскую литературу последних лет войны – не столько идейно, сколько стилистически (см., напр., рассказ И.А. Бунина «Старуха», 1916) (подр. см.: [Пономарев 2000a]). Идею неучастия в войне (вариант «пораженчества»), а также выхода из войны, осуществленного значительной частью армии (что заставит власть имущих так или иначе прекратить венные действия), активно использовали большевики в своей антивоенной пропаганде. Получив государственную власть, большевики сменили риторику: любые толстовские идеи стали восприниматься ими как враждебные.
Таким образом, эпоха войн и революций (см. изложение философских оценок проповеди Толстого в 1905–1907 и 1917 гг.: [Римский, Резник, Мюльгаупт 2017, 82–86]) актуализировала толстовское непротивление в общественном дискурсе. В годы Русско-японской войны сформировалась политико-идеологическая антитеза: с одной стороны, патриотический мэйнстрим, трактующий войну как священное Божье и государственное дело, и, с другой, толстовское отношения к войне, отрицающее само понятие «патриотизм» как «ненужное»
и даже вредное. Как показано О.А. Богдановой, эти идейные позиции во многом сложились во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда Толстой (в «Анне Карениной») и Ф.М. Достоевский (в «Дневнике писателя») вступили в заочную полемику. В создании «государственнической» парадигмы, помимо Достоевского, приняли участие Ф.И. Тютчев, Вл.С. Соловьев и Н.Ф. Федоров, полемизировавший с Толстым уже в начале 1900-х гг. по поводу статьи «Не убий!» [Богданова 2013, 134–135; Богданова 2022, 111–112]. Мережковский, как и многие другие литераторы и публицисты, в начале Русско-японской войны провозглашал «государственническое» отношение к войне, унаследованное от Достоевского, но на фоне всеобщего разочарования ходом боевых действий приблизился к толстовским позициям [Богданова 2022, 114].
Та же антитеза с новой силой возродилась в общественной жизни с началом Первой мировой войны – с поправкой на цензуру, не пропускавшую антивоенные материалы. Так, публицистика одного из крупнейших русских журналов того времени, «Русской мысли», целиком строилась в пределах «государственнической» парадигмы [Богданова 2013, 135–139]. Толстовцам, еще представлявшим в годы Первой мировой войны существенную общественную силу и преследуемым правительством за пафи-цизм, удалось создать свой журнал «Единение» только во второй половине 1916 г. Заговорить же в полный голос получилось только после отмены цензуры Февральской революцией. Интересно, что надежды на прекращение войны они возлагают на новую государственную власть, а когда этого не происходит, сближаются с анархистами и социал-демократами, выступающими против войны с иных позиций. Особенную надежду внушают им случаи братаний на фронте [Агарин 2013, 507–509].
Выход большевистской России из Первой мировой войны (фактически – поражение) и разгул революционного насилия были осмыслены многими публицистами как метафизическая вина Толстого. Так, Н.А. Бердяев в работе «Духи русской революции», вошедшей в сборник «Из глубины» (1918), утверждал, что проповедь Толстого: не столько «непротивление», сколько стремление к выходу из национальной истории, (моральная) унификация всего и вся, утверждение «ненужности» важнейших форм цивилизации, отрицание природы национального – подготовило нигилистическую революцию. Толстовская мораль, по мнению Бердяева, шире непротивления: Толстой дал антигосударственнической, анархистской стихии русской души морально-религиозную санкцию.
Гражданская война, продолжившая в России Первую мировую, казалось бы, окончательно перечеркнула идею «непротивления». Большевистская власть и Красная армия осмысляли Гражданскую войну в рамках (заимствованной в окопах Первой мировой) идеологемы «последней войны», необходимой для будущего мирного счастья. Белое движение представляло Гражданскую войну в религиозно-национальном плане: как сражение, ведущееся исторической Россией, во имя Бога, добра и национального государства против разрушающих все это безбожников и злодеев [Пономарев 2021]. Обе стороны строили свою риторику на идее вооруженной борьбы за собственные ценности, не оставляя никакого шанса «непротивлению». Однако по окончании войны как красные, так и белые увидели в толстовстве опасного конкурента. Нарком просвещения СССР А.В. Луначарский в 1925 г. начал свое выступление о Толстом утверждением: марксизм и толстовство противостоят друг другу, а «непротивление злу есть выгодная форма оппозиции...» [Луначарский 1928, 12].
В том же году И.А. Ильин, занявший место крупнейшего идеолога правого крыла эмиграции, выпустил полемическую книгу «О сопротивлении злу силою». Вся она посвящена развенчанию идеи, освященной авторитетом Льва Толстого. Непротивление злу, полагает Ильин, есть самопредание злу: «В самом деле, что означало бы “непротивление” в смысле отсутствия всякого сопротивления? Это означало бы приятие зла: допущение его в себя и предоставление ему свободы, объема и власти» [Ильин 1925, 11] [Выделено автором – Е.П. ]. Несопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым. Кроме того, рассуждает Ильин, Толстой представляет зло как некий внешний феномен. Настоящее зло, напротив, феномен внутренний: зло зарождается в духе и именно там, в первую очередь, надлежит с ним бороться. Третьим аргументом Ильин разделяет принуждение и насилие. И приходит к выводу, что совершенно невозможно назвать всякое заставление насилием.
Выстроив эту систему посылок, Ильин легко разбивает любые аргументы Толстого и обосновывает необходимость «меча» («не мир пришел Я принести, но меч»; Мф. 10: 34–39; Мк. 12: 9–13; Лк. 12: 51–53), защищающего духовные ценности: «Тот, кто ему <злу. – Е.П. > не сопротивляется, тот уступает ему и идет в его свите; кто не пресекает его нападения, тот становится его орудием или гибнет от его лукавства. Здесь нельзя выжидать, вилять или прятаться, ибо не говорить злу ни “да”, ни “нет” значит говорить ему “да”: и потому выжидающий и прячущийся совсем не “выжидает” и не “прячется”, а предает и предается» [Ильин 1925, 156]. По этой причине физическое «пресечение» зла, включающее убийство поборников зла, может стать прямой религиозной (и патриотической – это понятие, ненужное и лживое, с точки зрения Толстого, представляет важнейшую ценность для Ильина и, по понятным причинам, для всей эмигрантской мысли) обязанностью человека. Ибо борьба со злом – это не путь личной святости, это принятие на себя обязанности во имя преданности Божьему делу.
Н.А. Бердяев в рецензии на книгу Ильина заметил, что «Добро И. Ильина очень относительное, отяжелевшее, искаженное страстями нашей эпохи, приспособленное для целей военно-походных» [Бердяев 1925, 78]. Ильин, вероятно, с этим бы даже согласился: его основным адресатом были бывшие солдаты и офицеры Белой армии. Учитывая исключительную популярность Льва Толстого в кругах в эмиграции [Пономарев 2000b], книга должна была поддержать бывших белогвардейцев в уверенности, что они сделали правильный жизненный выбор.
Книга Ильина стала последней точкой в философском обсуждении «непротивления». Сам посыл Толстого был признан несостоятельным; толстовство и его «непротивление» попали в архив. Репрессии 1930 гг. окончательно покончили с толстовскими поселениями в СССР; «непротивленцы» не были нужны советскому государству, собирающемуся воевать за мировую революцию. XX в. было не до «непротивления».
Список литературы Толстовское непротивление в контексте Серебряного века, русской революции и русской эмиграции: часть 2
- Агарин Е.В. Антивоенные выступления в журналах толстовцев 1916–1918 гг. // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: Политика и поэтика. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 504–513.
- Бердяев Н.А. Кошмар злого добра (О книге И. Ильина «О сопротивлении злу силою») // Путь. 1925. № 4. С. 78–81.
- Богданова О.А. Русская классика и восприятие Первой мировой войны в литературной среде России 1914 г. На материале журнала «Русская мысль» и других изданий // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: Политика и поэтика. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 119–144.
- Богданова О.А. Русско-японская война и новое осмысление наследия Достоевского // Новый филологический вестник. 2022. № 2(61). С. 109–119.
- Богомолов Н.А. Другой Толстой. Писатель глазами русских символистов // Toronto Slavic Quarterly. 2012. № 40. Spring. С. 7–22.
- Гачева А.Г. Филология на службе философии: Опыт анализа «Трех разговоров» Владимира Соловьева // Соловьевские исследования. 2010. № 2. С. 50–82.
- Евлампиев И.И., Матвеева И.Ю. Принцип «непротивления злу насилием» Л.Н. Толстого в контексте русской религиозной философии конца XIX – начала ХХ века // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2020. Т. 24. № 2. С. 165–180.
- Ильин И. О сопротивлении злу силою. Берлин: Типография Общества «Presse», 1925. 11 с.
- Луначарский А.В. О Толстом. М.; Л.: Государственное издательство, 1928. 140 с.
- Магомедова Д.М. «Переписывание классики» на рубеже веков: сфера автора и сфера героя // Литературный текст: Проблемы и методы исследования. Т. 6. М.: РГГУ, 2000. С. 212–218.
- Магомедова Д.М. Переписывание сюжета о «новых людях» в русской прозе конца XIX – начала XX вв. (В.В. Вересаев и З.Н. Гиппиус) // Новый филологический вестник. 2018. № 2(45). С. 118–127.
- Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский (Религия) // Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений: в 24 т. Т. 11–12. М.: И.Д. Сытин, 1914. 240, 274 с.
- (а) Пономарев Е.Р. И.А. Бунин и Л.Н. Толстой: автореф. дис. … к. филол. н.: 10.01.01. СПб., 2000. 23 с.
- (b) Пономарев Е.Р. Лев Толстой в литературном сознании русской эмиграции // Русская литература. 2000. № 3. С. 202–211.
- Пономарев Е.Р. Отечество в философских построениях И.А. Ильина: литературные проекции // Studia Litterarum. 2021. Т. 6. № 3. С. 222–243.
- Римский В.П., Резник С.В., Мюльгаупт К.Е. Учение Л.Н. Толстого о насилии и ненасилии в зеркале русских революций // Наука. Искусство. Культура. 2019. № 3(15). С. 75–93.
- Толстой Л.Н. Одумайтесь! // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 36. М.; Л.: ГИХЛ, 1936. С. 100–148.
- Шестов Л. Добро в учении Л. Толстого и Ницше (Философия и проповедь). СПб.: Шиповник, 1911. 192 с.