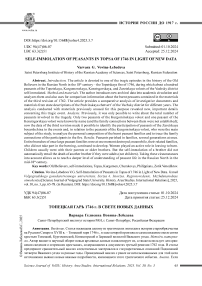Топецкая гарь 1746 г. в свете новых данных
Автор: Вовина-Лебедева В.Г.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История России до 1917 г.
Статья в выпуске: 3 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена одному из трагических эпизодов в истории старообрядчества на Русском Севере в XVIII в. – Топецкой гари 1746 г., в ходе которой произошло самосожжение около сотни крестьян Топецкой, Кургоминской, Конецгорской и Зарецкой волостей Важского уезда. Метод и материалы. Автор вводит в научный оборот новые архивные данные и анализирует их, а также использует для сравнения сведения о сгоревших крестьянах, содержащиеся в документах третьей ревизии 1762 года. В статье предпринят сравнительный анализ следственных материалов и государственных описаний Подвинской четверти Важского уезда за разные годы. Проведенный анализ с ранее не использованными для этой цели источниками выявил новые важные подробности, касающиеся этого трагического события. Анализ. Если известны только два крестьянина Кургоминской волости и один крестьянин Конецгорской волости (и родственные связи между ними не были установлены), то теперь данные третьей ревизии позволили выявить участие крестьян Зарецкой боярщины в тех событиях, а в отношении крестьян Кургоминской волости, которые были основным предметом исследования, проанализировать персональный состав сгоревших крестьянских семей, проследить родственные связи участников пожара. Результаты. Крестьяне гибли семьями, сразу по несколько поколений. Целые ветви некогда больших крестьянских семей были в один момент уничтожены, между тем родственные им семьи, которые не приняли участие в гари, продолжили развиваться. Активную роль в уходе на сожжение играли женщины. Дети обычно уходили с родителями или старшими братьями. Но самосожжение брата не влекло автоматически за собой смерть другого брата, если они были взрослыми (не детьми). Учет этих обстоятельств позволяет нам выйти на более глубокий уровень понимания крестьянской жизни на Русском Севере середины XVIII века.
Старообрядцы, самосожжения, Топса, Кургомень, Чураковы, филипповцы, Зотик Венедиктов
Короткий адрес: https://sciup.org/149148810
IDR: 149148810 | УДК: 94(47)06-07 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.3.7
Текст научной статьи Топецкая гарь 1746 г. в свете новых данных
DOI:
Цитирование. Вовина-Лебедева В. Г. Топецкая гарь 1746 г. в свете новых данных // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 65–78. – DOI:
Введение. Вопрос о самосожжениях староверов XVIII в., в том числе в 1740-х гг., исследовался начиная с XIX в. [24]. В последние десятилетия отметим важнейший вклад, внесенный Е.М. Юхименко [27], краткий обзор событий 1746 г. на р. Топсе, сделанный В.И. Щипиным [26], посвященные самосожжениям староверов книги М.В. Пулькина [20; 21] и Е.В. Романовой [22; 23].
В литературе уже отмечалось, что среди крестьян в XVIII–XIX вв. имело место пассивное сопротивление официальной церковной культуре [19]. Духовные росписи Подвинской четверти Важского уезда показывают такую же картину еще в николаевское царствование [4]. Можно указать на изложение своей жизни крестьянином-старовером Степаном Чураковым [13]. Единственным фактом открытого сопротивления официальной церкви и государству в Подвинской четверти остается Топецкая гарь.
События в Топсе и соседних волостях в 1746 г. являлись частью большой волны самосожжений, прокатившейся по Русскому Северу с начала 1740-х гг. [20; 23]. Сохранившиеся отчеты властей и их переписка дают возможность получить дополнительные данные по истории крестьянских семей указанных волостей, если приобщить сведения из государственных описаний к материалам разыскного дела. Трагедия 1746 г. позволяет лучше понять, каковы были внутрисемейные отношения крестьян и взаимные отношения между крестьянскими кланами данной местности.
Методы и материалы. Население северных волостей было устойчивым по составу, что может способствовать составлению крестьянских родословных [3; 5; 6]. Для истории Топецкой гари представляют интерес вторая ревизская перепись 1745 г. [7] и третья ревизия 1762 г. [25]; в последней сохранились сведения о крестьянах, учтенных в 1745 г., но умерших к 1762 году. В начале XX в. было опубликовано краткое изложение отчета о происшествии 1746 г. на р. Топсе из фонда Синода [15]. В литературе по истории старообрядчества имеются ссылки на это издание [26]. Само архивное дело, датируемое промежутком 28 ноября – 14 июля 1747 г. [18], содержит гораздо больше важных подробностей. Еще один вариант сходных по составу материалов находится в РГАДА [14].
Е.В. Романова смотрела материалы в РГАДА, М.В. Пулькину были знакомы оба варианта. Но они специально не занимались именно Топецкой трагедией [20, с. 29]. Е.В. Романова включила Топецкую гарь в свой «Перечень массовых самоубийств» [23, с. 259] и привлекла извлечения из архивных материалов, когда исследовала «погребальную обрядность» в ходе подготовки самосожжений [23, с. 235–236] и роль наставников как организаторов массовых самоубийств [23, с. 196].
Для нас особую ценность имеют показания, данные во время следствия крестьянином Афанасием Чураковым, а также его дальним родственником Василием Чураковым, единственным спасшимся на пожаре.
Сравнение показывает, что в материалах РГИА присутствует более подробное изложение допроса Афанасия Чуракова, чем в деле из РГАДА, поэтому будем в основном опираться на них.
Анализ. В первые годы царствования императрицы Елизаветы Петровны в Подви-нье появились староверы, покинувшие Выгов-скую общину из-за конфликта с ее руководителями. Они становились организаторами гарей. На левом берегу р. Двины в Черевковс-кой волости в 1742 г. сгорел 21 крестьянин (наставником оказался выходец из Выговской общины); через год недалеко от Черевково по прибытии военной команды из скита показался старец, сказавшийся выходцем из Выговс-кой Даниловской обители, отказался сдаться и поджег избу, в которой сгорело 19 человек. В декабре того же года в Уфтюжской волости в одной из деревень сошлось 64 крестьянина, которые подожгли избу; в октябре 1753 г. крестьяне собрались в избах на р. Ентале, уговоры сдаться привели лишь к тому, что началась гарь, в которой сгорело 170 человек [24, с. 91–93; 26, с. IV; 20; 23].
Все случаи объединяют наличие учителя (в двух случаях с Ваги), укреплявшего присутствующих, и другие общие черты. Начало следствию о событиях на р. Топсе положили сведения, поступившие в Сенат и Тайную канцелярию от десятских священников: Кургомин-ской волости Марка Никитина и Топецкой волости Матвея Тимофеева, которые донесли в Важескую канцелярию Подвинской четверти о том, что начиная с 1742 г. дворцовые крестьяне вышеуказанных волостей, а также их жены и дети стали уходить неведомо куда без паспортов; их родственники пытались отговориться тем, что это недолгие отлучки «за своими нуждами» или же «Богу помолиться». Мы не знаем из сохранившихся материалов, как быстро собрались крестьяне в лесном скиту на р. Топсе. Поскольку в 1745 г. шла ревизская перепись, сказки о крестьянах могли быть затребованы именно в связи с ней, отсюда и стандартные ответы.
Понятно, почему все началось в Топсе и Кургомени именно в 1742 г., ведь как раз 14 октября (уже после ссоры с Семеном Денисовым, раскола в Выговской обители и ухода оттуда) старец Филипп (Фотий Васильев), основатель филипповского беспоповского согласия, сжег себя вместе с 70 последователями в скиту на р. Умбе. После самосожжения Филиппа его последователи старались укрыться в том числе в Черевковской волости.
Посланным в Кургоминскую и Топецкую волости нарочным было велено действовать вместе с соцким Нижней трети Подвинской четверти и расспросить родственников («каждого порознь при отцах их духовных, не разглашая о том никому»), известно ли им, ушедшие крестьяне «не на воровствах ли где обретаются» и «не имеется ли где в лесах жи-телства и воровским людем пристанища». Итак, подозрение о расколе возникло не сразу. По ходу расспросов выяснилось, что у некоторых матери и жены, у других братья и дети отлучились не только якобы молиться Богу, но и «со своей пахотой для продажи к городу Архангелскому и в протчие места, а иные за скудостию скитаются в мире» [18, л. 8 об.]. Однако согласно показанию, сделанному уже после гари Василием Чураковым, «до собрания в тое избу, как он, Чюраков, слышал, те расколщики жили в лесах, а в тое избу когда собрались не знает, однако ж слышал, что в нынешнем 746-м году» [18, л. 11 об.].
Во время сыска «расколщиков» на стан в Борецкой волости пришли из Топецкой волости «выборные два человека» и объявили: «Во оной-де Топецкой волости собрались в одну избу пришедшие из лесу, а протчие от-лючившиися ныне от домов Топецкой, Курго-минской и Конецгорской волостей мужеска и женска полу, людей семьями множественное число», наставником их был Зотик Венедиктов. Всего в избе оказалось 89 человек. Крестьяне объявили, что если избу начнут ломать, то они сожгутся. Присланные нарочные оказались в затруднении. Им шли приказы действовать уговорами и захватить запершихся живыми, не допустить самосожжения 1. Чтобы те не разбежались и для недопущения прихода в избу новых крестьян, к ней приставили караул в 40 человек, правда, также из староверов, и стали ждать дальнейших указаний. Власти не вдавались в психологическое состояние людей, решившихся на самосожжение, и слали указания, что нужно уговорить их выйти добровольно, не проявлять «озлобления», избы не ломать, не препятствовать доставке в избу пропитания. Еду, как следует из дела, староверам носили окрестные крестьяне, передавая ее через окна [18].
Караул вокруг избы требовалось держать скрытно «и не во близости, дабы оные не видели и знания об оном не имели». Однако устроить это оказалось невозможно, «понеже де оная келия имеется на горе высокой на едине и к лесу в кулиге 2, и на все стороны из оной видно, и с одной стороны жылье на версту, а з другой лес на пол версты, и ежели учредить в далном растоянии караул, то и наиболше во вную келию доволное число сойдется с великою охотою, и удержать им будет никак невозможно, понеже-де и ныне великое отгоне-ние имеется» [18]. Уже вечером 16 октября крестьяне из избы присланным за ними «чинили как от ружья польбу, так и копием колотье», утверждая, что «за прекращением веры их по преданию святых древних отец, страдание принять готовы» [18]. Такое положение сохранялось весь октябрь и ноябрь.
К декабрю в Важский уезд по указу из Сената была отправлена военная команда из Архангельска, чтобы «пущих заводчиков... заклепав в кандалы отправить на ямских подводах за безопасным канвоем в Санкт Пи-тербурх в Тайную канцелярию», а прочих «держать в Архангельске под караулом в Двинской крепости до указа, никого к ним не допускать, не давать им писать, и если кто-нибудь из них будет кричать или говорить непристойные речи, класть им в рот кляп». Команда прибыла в лес 6 декабря; согласно донесению капитана, он начал «увещевать» собравшихся, те попросили времени подумать и тут же зажгли избу. Пожар не смогли потушить, погибли все, кроме одного человека. Василий Чураков высунулся из окна, и его вытащили солдаты, находившиеся снаружи. Затем команда прошла по р. Топсе к другой избе, где также при их приближении сожглись четыре человека.
Официальные материалы проливают свет на несколько семейств Кургоминской волости, которые принадлежали к одному из старейших крестьянских родов – роду Чураковых. Что касается наставника Зотика Венедиктова, его фигура и воззрения могут стать темой отдельного исследования, и здесь мы специально на ней останавливаться не будем 3.
Все, что мы знаем о нем, сводится к известию, что он был выходцем из Даниловского Выговского скита [18, л. 1–4 об.; и др.]. Однако Зотика Венедиктова нет в «Истории Вы-говской старообрядческой пустыни» Ивана Филиппова, умершего за два года до рассматриваемых событий [8], в которой перечислены известные выговские старцы. Из показаний Василия Чуракова следует, что его мать познакомилась с Зотиком незадолго до событий осени 1746 года. После самосожжения в Топсе наставника было велено искать и прислать «за крепким караулом» в Архангельск и митрополиту [18, л. 32], однако его не смогли обнаружить и нет оснований считать, что он уцелел после гари.
Василий Чураков показал, что грамотными из сгоревших, кроме Зотика Венедиктова, были только два человека: крестьяне Федор Пигахин и Корнило Чураков. Именно они (а также Арефа Чураков) разговаривали из окна с посланными уговаривать их сдаться «пищиком» Подосеновым и солдатом Тере-мецким. Последние со слуха имя Корнилы услышали как «Кирило», и именно так оно фигурирует во всех документах дела. То, что это был именно Корнило Чураков, подтверждается ревизскими материалами. Как показал Василий Чураков, уже находясь запертыми в избе, «оные Пигахин и Чюраков от правоверия их отвращали, а учили расколнической прелести», и «отправляли они утренние и вечерние пение и часы, а другого церковного действия никакова не было» [18; 14, л. 12]. Если все остальные крестьяне были неграмотными, они должны были проникнуться идеями староверия с чужих слов. Трое же грамотных, видимо, были знакомы с книгами, которые почитали староверы, например, с Кирилловой книгой и другими текстами [24, с. 89], отчего называли никониан «арменами» [1, с. 85, 102– 105; 9, с. 250; 10, с. 266–270; 11] 4.
Привлеченный к уговорам священник Федот из шенкурского Троицкого девичья монастыря, присланный архиепископом Архангелогородским Варсонофием, также не преуспел. Запершимся крестьянам предлагалось, чтобы они «от душегубного намерения» отказались и вместо этого записывались на основании императорского указа 1744 г. «при нынешней ревизии в двойной с расколниками оклад», чтобы потом «жили безбоязненно» [18, л. 3]. В ответ они дали неожиданно рациональное объяснение, что «за оставлением домов своих и пожитков понесть им оного окладу не можно». И хотя им было обещано, что их пожитки будут сохранены и двойной оклад будет на них возложен не сразу, это не изменило дела. Крестьян убеждали записаться в подушный оклад «при нынешней ревизии». В целом 2-я ревизия происходила в 1743–1747 гг., дополнительные сказки подавались до 1756 года. И примерно в эти же временные рамки помещаются все указанные выше массовые самосожжения. Вероятно, та торопливость, с которой действовали власти и ответом на которую стали гари, была связана с необходимостью поскорее собрать ревизские сведения, а для этого следовало вернуть разбежавшихся крестьян.
Одной из основных и поистине трагических фигур среди участников Топецкой гари оказался крестьянин Кургоминской волости Афанасий Чураков. 7 октября 1746 г. он явился в Важскую канцелярию и донес о собравшихся в избе, в лесу на р. Топсе, крестьянах. О себе он сообщил, что «лет десять назад» женился и перешел жить в Борецкую волость с матерью, женою и детьми. До этого курго-минский крестьянин Арефа Чюраков показал, что «мать ево Авдотью Иванову дочь в прошлом 744-м году взял из дому от него брат ево Арефы родной тое ж Кургоминской волости крестьянин Афанасей Чюраков для житья в дом к себе в Борецкую волость, у которого-де в том 744 и 745 году и жила безотходно» [18, л. 8]. Таким образом, Арефа (один из тех, кто разговаривал из окна с нарочными) оказался братом Афанасия, и мы узнаем также имя их матери.
Расспросы крестьян дают и другие сведения. Крестьянин Борецкой волости Василий Юровский в допросе показал, что Афанасей Чюраков в апреле 1746 г. продал ему тяглой жеребей и хоромное строение, после чего вместе с домашними (женою и детьми), взяв скарб и скотину, объявил, что они пошли «на прежнее жилище в Кургоминскую волость». Однако в Кургомень он не явился, а его рогатый скот через неделю оказался у крестьян Борецкой волости Федоса Парфенова и Максима Гагарина, причем Парфенов говорил,
«что оной Чюраков з домашними живет в лесу, оной Подвинской четверти по Топце реке» [18, л. 7–14].
Очевидно, какое-то время Афанасий жил с семьей в скиту на р. Топсе, но потом покинул его и отправился с доносом к властям, что было нетипичным поступком и нуждается в осмыслении. Им было показано, что от роду ему 43 года и «в нынешнем 746 году маия в последних числех из оной Борецкой волости с матерью своею Авдотьею з женою Татьяной, детми сыновьями Корнилом дватцатилетным, Федосеем осмнатцатилетным, Матфеем ше-стнатцатилетным, дочерями Домникой две-натцатилетной, Анной двулетной и с пришедшим к нему неведомо откуду мужиком Зоти-ем Венедиктовым» продал дом и землю Василию Юровскому, а скот Федору Зверинки-ну5 и Максиму Гагарину. После этого они «поплыли в карбасу, сказавшись яко б на прежнее жилище в Кургоминскую волость» (что подтверждает показания Василия Юровского) «и отплыв от оной Борецкой волости Двиною рекою немалое число, оставя карбас, пошли в лес». Они пришли «по впадающей во оную Борецкую волость речке Телде и в нее по впадающей же маленкой речке Водопойке в лес, близ оной речки имеющейся со стоящей от оной Борецкой волости, например, как в пят-натцати верстах и в построенной оным Зоть-ем прежде оного походу келии жителство имеют» [18, л. 7–14].
Действия Афанасия Чуракова на первый взгляд кажутся странными. Так, он не скрывал своего староверия и признавался, что «имеет он желание молитца Богу и справлять по старопечатным книгам и креститца дво-перстным сложением, что и исправляли, понеже он исправление по новопечатным книгам и креститься троеперстным сложением и в крещении и в протчем священнослужении ходить противу солнца на восток, и в постановлении и во имении на церквах и в церквах ныне четвероконченого креста признавает противность и имеет сумнение» [14, л. 1 об.; 18, л. 10]. «Сумнение» это зародил в нем, видимо, не только неизвестный ему до того «мужик». Оказывается, что старший сын Афанасия Корнилий и был одним из трех грамотных крестьян, которые стали инициаторами гари. Следовательно, можно предположить именно его влияние и на свою семью, и на родного дядю Арефу Чуракова.
Для власти показания Афанасия Чуракова имели большое значение. Сразу вслед за тем в Борецкую волость, а затем на Топсу были направлены нарочные, которые собрали понятых, прибыли на место, увидели избу, в которой нашлись все в разное время ушедшие из своих деревень жители Топсы, Кургомени, Конецгорья и пр. Нарочные были посланы для изъятия «расколнических книг и из них выписок», имевшихся у Зотика Венедиктова, о которых сообщил Афанасий, и для «привозу оного, також матери, жены и детей обьявленного Чюракова, в расколе имеющихся, в Важенс-кую воеводскую канцелярию». Итак, прежде всего, пока не было получено указа сверху, речь шла о задержании не всех староверов, только Зотика Венедиктова и семьи Афанасия Чуракова. И хотя прямо об этом не сказано, можно предположить, что именно спасение (даже вопреки их воле) матери, жены и детей от добровольной смерти и было той целью, которую преследовал Афанасий своим доносом. Не исключено, что об этом существовала какая-то договоренность, хотя в деле она не отражена. Возможно, до прихода в лесную избу Афанасий не предполагал, что способом очищения, о котором ему говорили грамотные люди, окажется самосожжение. На месте же все указывало на это, поскольку изба была обложена соломой и вениками и закрыта «заплотами» [14, л. 17–17 об.], да и сами староверы, в том числе его старший сын, не скрывали своих намерений.
Можно только представить те душевные терзания, которые в итоге заставили отца семейства бросить близких и самовольно отправиться доносить на них. В тот же день 7 октября нарочные и Афанасий Чураков (последний под стражей) «для показания означенных имеющихся в лесу жителства и кельи» были посланы на место, что и дало толчок всем изложенным выше событиям, имевшим трагический финал [18, л. 7–14]. В дальнейшем, «по объявлении им в лесу келии», Афанасия предполагалось отослать под караулом назад, в воеводскую канцелярию. Но все случилось иначе. Мы не знаем, как долго Афанасий находился под стражей и как он вел себя, прибыв на место. Очевидно одно: его было велено стеречь, но предотвратить побег не удалось. В другом месте рапорта сказано, что Афанасий «ис-под караулу крестьянского бежал, которого же потом видели в запертой келье обще з запершимися расколщики... Почему уповаемо, что и оной Чюраков згорел же». Власти, впрочем, долгое время не были уверены в гибели Афанасия вместе с семьей и еще в феврале 1747 г. считали, что смерть его не доказана и нужно продолжать поиски. В конце концов в Архангелогородской губернской канцелярии было объявлено, что «тот Афонасей Чюраков... с помянутыми раскол-ники в избе згорел...» [18, л. 39 об.]. Оказавшийся его дальним родственником Василий Чураков после гари также не знал, жив тот или же нет и где находится, но утверждал, что «в вышеозначенной-де избе оного Афо-насия не было» [14, л. 19, 22 об.]. В материалах третьей ревизии Афанасия Чуракова мы не находим.
Материалы государственных описаний дают возможность понять, с какой стороны Афанасий и Арефа Чураковы (в материалах следствия указано имя их отца – Федос) принадлежали к роду Чураковых [3; 6]. Василий Чураков показал, что «Кургоминской волости крестьянина Афонасья Федосеева сына Чюракова» он знал, потому что тот лет десять назад «живал в одной с ним волости неподалеку от него Чюракова и ему де Чюра-кову был в свойстве, токмо в далном». Поскольку расспрос шел уже после совершившейся гари, Василий подчеркивал, что «он Афонасей Чюраков к нему Чуракову так и он Чюраков к тому Афонасью не для чего не хаживали и знакомства никакова между собою они не имели» [14, л. 19; 18, л. 27].
В 1745 г. в д. Артемовской был записан Арефа Федосеев сын Чюраков 28 лет (с сыновьями Василием 3 лет и Павлом 30 недель 6), а также его брат Иван 21 года [7].
Ранее в 1717 г. в д. Артемовской был записан их отец Федос Герасимов 46 лет с сыном Арефой 4 лет. Поскольку ландратская перепись составлялась, чтобы проверить предыдущие описания, в ней указывались прошлые жители двора и отмечено, что Федос был ранее крестьянином д. Гавриловской, где остался его пустой двор. Его брат Степан и дочь Евдокия, а также первая жена Марья Ивано- ва к этому времени умерли. В 1717 г. у него была уже вторая жена Евдокия, и сын Арефа (а позднее Иван), скорее всего, были от этого брака [2, с. 231]. В 1710 г. в том же дворе были записаны Федосей Герасимов с женою Марьей Ивановой и дочерью Евдокией, а также его старший брат Степан «сорока пяти годов, болезнен». А за год до этого, в 1709 г., была указана и причина болезни Степана: во дворе записан «Федосей Ерасимов» 30 лет, и про брата сказано, что у него был свой двор, который запустел именно в 1709 г., «оттого, что он вне ума, а жывет во дворе у брата своего Федосея» [2, с. 199].
Однако ни в одном из этих описаний не указан сын Федосея по имени Афанасий. Он должен был родиться примерно в 1710 г. или даже ранее. Можно предположить причину его отсутствия в переписи 1717 г.: либо он жил где-то в другой волости, например, у родственников матери (такие случаи встречаются), либо был скрыт от переписи (несмотря на все строгости, в условиях которых она проходила). Свой возраст крестьяне указывали приблизительно; так, по данным второй ревизии, Афанасию в 1745 г. было 36 лет, а в своих показаниях через год он сам указал свой возраст как 43 года. Мы знаем только, что его старший сын Корнило был в 1746 г. взрослым: отец указывал его возраст в 20 лет, и это подтверждается тем, что Корнило пользовался уважением как грамотный и вместе с дядей разговаривал от имени других крестьян с нарочными. Остается смириться с тем, что причина отсутствия Афанасия Чуракова во второй ревизской переписи пока не ясна.
Так или иначе, он должен был какое-то время жить с отцом и братьями в Кургомени, в д. Артемовской. В материалах следствия он назывался кургоминским крестьянином, хотя в 1745 г. был записан уже в Борецкой волости, где поселился после женитьбы 7. Афанасий Чураков показал, что со старой верой его познакомил некий Алексей Яковлев Королев из Архангельска (принадлежавший, как показало следствие, к известной семье Чирцо-вых [12]), в доме у которого Афанасий бывал для продажи скота. Чирцов, в свою очередь, признался, что Афанасия он знал, так как еще десять лет назад ездил «для покупки сала говяжья в Важеском уезде» и там у отца его
Федосья Чуракова «имел на краткое время квартиру» [18, л. 23]. За два года до Топецкой гари Афанасий забрал к себе мать (видимо, после смерти отца), но поддерживал связь с братьями, во всяком случае, с Арефой, поскольку на р. Топсу отправились с семьями и тот и другой.
Арефа Федотов (Федосов) Чураков упомянут при третьей ревизии как «згоревший в расколе»: сам Арефа, которому было 28 лет в 1745 г., и его сын Василий трех лет (младший сын Павел умер в 1745 г.) [25, л. 209]. Такими же сгоревшими раскольниками обозначена в переписи Борецкой волости семья Афанасия Чуракова, жившая в д. Лашевской: Афанасий Федосиев сын Чураков 36 лет в 1745 г., его сыновья Корнило 18-ти, Федосий 16-ти и Матвей 14 лет [25, л. 403]. Это совпадает с показаниями самого Афанасия о возрасте детей, хотя он упоминал также мать, жену и двоих дочерей. Таким образом, реальная численность семьи (учитывая лиц и мужского, и женского пола) оказалась в два раза больше, чем явствовало из переписи.
Младший же брат Арефы и Афанасия Иван, 21 года в 1745 г. и 38 лет в 1762 г. (в третью ревизию записаны также его сыновья Михаил и Афанасий), по каким-то причинам не пошел гореть вместе с другими членами семьи. Ему была суждена долгая жизнь: во время пятой ревизии 1795 г. при описании д. Артемовской там обозначен Иван Федосьев сын Чураков 54 лет, отпущенный по паспорту и ушедший неведомо куда в 1791 г., а также его дети, продолжавшие жить в его дворе: взрослые сыновья Михайло и Афанасий, три внука, внучка и правнук [28, л. 441–482].
Если смотреть генеалогию этой семьи вглубь, их отец Федосий Герасимов из д. Гав-риловской во время переписи 1677 г. еще не мог быть упомянут, следовательно, можно искать лишь его отца Герасима. Только в одном случае в д. Токаревской были записаны Федка и Гараска Ефремовы [17, л. 151]. А еще ранее, в 1665 г., в д. Токаревской обозначен Герасим-ко 10 лет, сын Ефремки Алексеева, имевшего там двор [16, л. 405 об.]. Таким образом, семья, большая часть которой сгорела в 1746 г., имела глубокие корни в Кургоминской волости, и прадед Арефы, Афанасия и Ивана Чураковых (их родовое прозвище мы узнаем только из материалов следственного дела, поскольку в переписях они названы Чураковыми лишь в 1795 г.) значится в самой ранней из сохранившихся переписей этой волости [16].
Мы узнаем также, что в середине XVII в. кургоминский клан Чураковых существовал не только в д. Калининской [3], но и в д. Токаревской, где жил, по-видимому, с какой-то стороны принадлежавший к этому роду Ефремка Алексеев. Прямой связи Ефремки (судя по отчеству) с остальными Чураковыми установить не удается, поэтому, вероятно, был прав Василий Чураков, сообщая на следствии, что с Афанасием Чураковым они были в дальнем свойстве.
Обратившись к участию в гари Василия Чуракова, отметим, что в материалах дела он обозначен крестьянином д. Песковской [18, л. 19], хотя ни в одной из ревизий в Кургомени такой деревни не значится. В материалах второй ревизии Василий легко находится в д. Калининской (поскольку известно имя его деда Михаила, от которого он с семьей тайно ушел гореть в 1746 г.). Это Василий Петров Чураков, отец которого Петр Михайлов Чураков к тому времени уже умер [7], – деталь, представляющаяся важной, поскольку живой отец должен был или воспрепятствовать самосожжению семьи, или же присоединиться к нему. Петр Михайлов Чураков умер, видимо, еще молодым человеком. В переписи 1745 г. указаны «умершего Петра Михайлова сына дети» Василий и Артемий [7]. Этот Петр Михайлов мог быть или сыном Михаила Никитича Чуракова, которому по переписи 1717 г. было 46 лет, или же сыном Михаила Тимофеева, которому в 1717 г. было 50 лет [2, с. 220, 221; 3]. Оба Михаила между собой были родней, но сыновей по имени Петр ни у кого в 1717 г. не было. Следовательно, Петр Михайлов родился после 1717 г., то есть на момент второй ревизской переписи ему было бы не более 27–28 лет, а поскольку старший сын был тогда записан 16-летним, значит, Петр Михайлов стал отцом в 21 год и вскоре умер. Рано овдовевшая и оставшаяся жить с двумя сыновьями во дворе свекра его жена решила в 1746 г. «спасти» семью тем способом, который был доступен ее разумению.
При допросах Василий постоянно показывал, что «в расколе быть не желает, а же- лает быть в православной вере греческого исповедания» [18, л. 20 об.], что родился уже после первой ревизской переписи, жил одним двором «з дедом своим тое ж волости крестьянином Михаилою Чюраковым и с матерью своею да з братом Артемьем своим двором и жил он в том дворе сего 746 году до празни-ка Покрова Пресвятыя Богородицы». Инициатором ухода гореть он называл свою мать Маремьяну Петрову дочь, которая «неведомо чрез кого уведомилась, что того уезда в Топецкой волости имеютца в собрании раскол-ники, х которым расколником она и ходила, ибо та волость толко от оной волости в пяти верстах», что соответствует действительности. Вскоре после Покрова мать стала звать его с женой Матроной (Василий в переписи 1745 г. был показан холостым, следовательно, он женился вскоре после нее), братом Артемием и полугодовалой дочерью Марьей с собою, говоря, «что де тех расколников наставник говорит, чтоб крестное сложение слагать двое-перстное, и хотя-де за оное и огнь претерпеть, то-де царствие небесное будет, и притом же ежели не пойдем, налагали на нас свое проклятие» [18, л. 23, 24].
Когда именно Василий и его семья тайно оставили дом и пришли на р. Топсу, точно не ясно, но, вероятно, они оказались в числе тех крестьян, которые присоединились к остальным в последний момент, поскольку Зо-тик тогда же крестил всех в р. Топсе, и это произошло за день до того, как изба была взята под караул. Из показаний Василия Чуракова стало известно, как была устроена изба изнутри и как вели себя участники гари и наставники [18, л. 26]. Очевидно, Зотик доверял не всем крестьянам, боясь, что они разбегутся, поэтому (а не только из-за действий властей) все двери и ворота были заперты и даже по нужде крестьян выпускали не одних, а в сопровождении. Когда изба загорелась, помимо Василия многие хотели из нее выбраться, но не могли. Василий упоминал, что солдаты сломали ворота и пытались тушить пламя, но безрезультатно, так как не только сама изба, но и двор был заперт несколькими «плотами», и даже, когда вышибли двери, за дверями стоял также «плот» [14, л. 10–10 об.]. Он не видел, кто именно зажег избу, но утверждал, что «во время горения той избы у окон, которые были поперечинами не укреплены, стояли оной расколник Зотик и другие, а кто имянно, того за дымом познать было невозможно». Сам он, «убоясь... того сожжения», бросился «руками в окно, которое укреплено ж было накось запорами, и ис того окна бывшия при том солдаты ево едва вытащили» [14, л. 12–12 об.; 18, л. 25–25 об.]. Слова Василия подтверждают и другие случаи, когда при гарях двери и окна бывали заколочены и никто не мог спастись, «хотя были желавшие» [24, с. 106, 110, 126–127; и др.].
После гари Василий Чураков неоднократно был допрошен, а в январе 1747 г. их вместе с Алексеем Чирцовым возили в Петербург в Тайную канцелярию, но затем вернули обратно в Архангельск, о чем имеется расписка от 29 мая 1747 г. из домовой консистории Варсо-нофия, архиепископа Архангелогородского и Холмогорского [18, л. 54]. В итоге Василий был отпущен. Судя по материалам третьей ревизской переписи [25], крестьянин Василий Петров Чураков, в 1745 г. бывший в возрасте 16 лет, в 1749 г. был отпущен из волости по паспорту, но затем в срок не явился, а где находился в 1762 г., неизвестно. Видимо, это и есть Василий Чураков, спасшийся из Топец-кой гари, но потерявший всю семью и в итоге ушедший неведомо куда.
Мы можем выяснить, кто еще из курго-минских крестьян погиб в Топецкой гари. Материалы третьей ревизии Подвинской четверти дошли в двух экземплярах. Один из них находится в Государственном архиве Вологодской области, сохранился фрагментарно (ф. 388, оп. 1, д. 8445), второй в РГАДА [25, л. 196–220]. Кроме семьи Афанасия, Арефы и Василия Чураковых, в Кургомени погибла семья в д. Прокопьевской, состоящая из трех поколений. Глава рода Иван Максимов сын Кузнецов имел на момент гибели возраст 64 года (в 1709 г. ему было 30 лет, и сыновей не было, в 1717 г. 40 лет, жена Прасковья Дмитриева, сын Иван двух лет и две дочери, Анна семи и Прасковья четырех [2, с. 206], записаны везде без родового прозвища Кузнецовы). В 1745 г. у Ивана Максимова записаны сыновья Степан 35 лет и Иван 26 лет [7]. Оба сына были женаты и погибли с отцом и своими собственными семьями, включая малолетних детей. У Степана был сын Никита 10 не- дель, у Ивана годовалый сын Тимофей. Очевидно, женщины семьи погибли вместе с детьми и мужьями. Дочери Ивана Максимова Анна и Прасковья, если не вышли к этому моменту замуж (им должно было быть уже за 30 лет), вероятно, также погибли. В любом случае сгорело не менее 10 человек – все население двора [25, л. 203 об. – 204].
Следующий случай самосжегшихся в 1746 г. крестьян Кургомени – семья из д. Се-ливановской. Во время второй ревизии там были записаны два брата, имевших одинаковое имя: Иван Васильев Кузнецов 57 лет (умер в 1745 г.) и его младший брат Иван 52 лет, который «згорел в расколе» в 1746 г. вместе с сыном Макаром 17 лет [25, л. 205]. Возможно, братьев путали, поскольку при ландратс-кой переписи 1717 г. был записан лишь один Иван Васильев 35 лет, его жена и две дочери. Но кто это – Иван Большой или Иван Меньшой, непонятно. Ни один из братьев не указан в описи 1709 и 1710 гг., только их отец Василий Максимов, которому в 1710 г. было 40 лет, а в 1712 г. он умер [2, с. 198, 206, 224–225]. Во время переписи 1677 г. в этой деревне был записан с отцом их дед: «Максимко Фокин, у него сын Васка осми годов» [17, л. 150 об]. А в 1665 г. в д. Селивановской значился Ус-тинко Фокин, и в ним «брат родной Максимко пятинадцати лет» [16, л. 405 об.].
Таким образом, старая, укорененная в волости семья (мы можем проследить ее историю с 1665 г.) дожила до рокового 1746 г., когда одна ее половина погибла. Другая же половина, идущая от старшего Ивана Васильева, уцелела и размножилась. Сын этого Ивана Андрей (14 лет в 1745 г.) обозначен при третьей ревизии 31-летним. Его потомство продолжало обитать в д. Селивановской, и во время пятой ревизии 1795 г. там был записан Андрей Иванов сын Кузнецов 63 лет. Сыновей его, правда, не находим, но в д. Ефремовской была записана жена одного из крестьян по имени Наталья Андреева 30 лет, о которой сказано, что она взята из д. Селиванов-ской и у нее был сын 18 лет; в другом починке записана Марфа Андреева 44 лет, также из д. Селивановской; а в д. Прокопьевской был показан Лука Андреев сын Бурмагин 38 лет, о котором сказано: «Переведен тое ж вол[ос-ти] из д[еревни] Селивановской». Скорее все- го, это тоже сын Андрея Иванова. Таким образом, то обстоятельство, что юный Андрей Иванов в 1746 г. не пошел гореть вместе с семьей дяди, сохранило род, которому суждена была долгая жизнь. Поскольку отец Андрея к моменту гари умер, дядя был старшим мужчиной в семье, и это означает, что на подростка было оказано какое-то иное, более сильное влияние. Можно, например, высказать догадку, что сына не пустила на Топсу его мать [28, л. 441–482].
В Конецгорской волости единственным случаем было самосжигание упомянутого выше наставника Федора Пигахина. На следствии показывалось, что он был из д. Плес-кой, но в материалах третьей ревизии в д. Еремеевской записан «Федор Пигахин, высланной Сибирской губернии из Ыркуцкой правин-ции, лета 746 году, будучи в расколе, згорел» [25, л. 190]. Итак, Федор Пигахин был не местным, но оказался в числе организаторов То-пецкой гари не случайно, поскольку уже ранее был выслан с прежнего места жительства, возможно, как старовер, хотя это и не отмечено. Как и у Василия Чуракова, у него на следствии было названо такое название деревни, которое нигде более не встречалось.
Анализ материалов третьей ревизии показал, что в Топецкой гари погибли также крестьяне Зарецкой боярщины, хотя она и не была названа в материалах следственного дела среди волостей, крестьяне которых принимали участие в тех трагических событиях. В д. Антоновской там сгорели: крестьянин Сазон Васильев сын Салыкин 36 лет (в 1745 г.), его братья Филат 25 лет и Иван 15 лет, а также сын Филата Корнило 10 недель, разумеется, при этом погибли и женщины, которые просто не были учтены во второй ревизии. Сгорел также Герасим Петров Салыкин 23 лет, видимо, родственник Сазона Васильева. В той же деревне сгорел Степан Фотиев сын Бекетов 55 лет с сыном Никифором 16 лет. Однако Ва-сиан Степанов сын Бекетов 24 лет, также, очевидно, сын Степана Фотиева, но живший отдельно, гореть не пошел и был позднее записан в третьей ревизии 1762 г., будучи в возрасте 41 года [25, л. 221–221 об.].
В починке Рыгалинском погибли Григорий Прокопьев сын Бурмагин 39 лет 8, его брат Тимофей 14 лет и сын Александр (также 14 лет) [25, л. 222].
В д. Кучинской сгорели Кирило Ильин Силачев 25 лет и его сын Алексей 20 недель [25, л. 224 об.].
В д. Тонгаринской записан крестьянин Иван Сергеев сын Вакорин 41 года, который, как и его сын Михайло 21 года, был «отпущен по паспорту» в 1759 г., в срок не явился и «где ныне находится неизвестно», однако его младший трехлетний сын в 1746 г. «будучи в расколе згорел». Очевидно, что трехлетний ребенок не мог сам отправиться гореть, поэтому здесь незримо присутствует женщина, которая его увела с собой, скорее всего, мать, что и стало, возможно, причиной ухода затем отца вместе со старшим сыном из деревни. В той же деревне сгорел Афанасий Иванов Боровой 15 лет, у которого (что необычно) в 1762 г. записана мать, следовательно, она не сгорела и не была, видимо, инициатором самосожжения старшего сына (у нее еще оставался младший 12 лет, умерший лишь в 1759 г.) [25, л. 227–227 об.].
В д. Леонтьевской сгорел крестьянин Тимофей Семенов сын Силачев 59 лет, но его брат 36 лет и дети этого брата за ним не последовали [25, л. 230 об.].
Как видим, некоторые крестьяне Зарецкой боярщины, сгоревшие в 1746 г., принадлежали к одним и тем же семейным кланам: Салыкиных и Силачевых.
Крестьяне других волостей Подвинской четверти в Топецкой гари не участвовали, и никаких примет того, что в это время они подозрительным образом пропали, не имеется. Можно обратить внимание лишь на запись об одном крестьянине Осерецкой боярщины из д. Берковской: про Гаврилу Иванова Точилова 20 лет сказано, что он «в 748 году по некоторым делом сослан в ссылку», но причина ее не объяснена [25, л. 250 об.].
Число погибших членов семей Афанасия и Василия Чураковых, включая женщин, составило 12 человек. Кроме них мы знаем лиц мужского пола, сгоревших в Кургоминской (10 чел.), Зарецкой (15 чел.) и Конецгорской (1 чел.) волостях, всего 26 человек, которые теперь известны нам по именам. Если учесть, что женщин было более половины из сгоревших крестьян (состав семей Афанасия и Василия Чураковых это подтверждает), то это число нужно как минимум удвоить, что дает нам, включая семьи Афанасия и Василия, 64 человека.
К сожалению, в материалах третьей ревизии 1762 г., хранящихся в РГАДА, не оказалось данных по Топецкой волости. Поскольку в гари погибло около ста человек обоего пола, остается пока предположить, что остальные – приблизительно 36 человек – были крестьянами именно Топсы, где и произошла сама трагедия. Топецкая волость была наиболее населенной из волостей Подвинской четверти, поэтому такое соотношение представляется достоверным.
Результаты. Проведенный анализ дополнительных обстоятельств Топецкой гари 1746 г., предпринятый с привлечением ранее не использованных для этой цели источников, позволяет уточнить выводы, касающиеся истории этого трагического события. Если ранее можно было писать лишь об общем числе погибших, а по именам были известны только два крестьянина Кургоминской волости и один крестьянин Конецгорской волости (и родственная связь между ними не была установлена), то теперь данные третьей ревизии позволили выявить участие в тех событиях также крестьян Зарецкой боярщины и проанализировать персональный состав сгоревших крестьянских семей Кургоминской волости. К сожалению, пока не обнаружены и потому не использованы данные 1762 г. по Топсе, волости, из которой погибло наибольшее число крестьян.
Крестьяне гибли семьями, сразу несколькими поколениями. Уничтожались целые ветви часто больших крестьянских родов. Активную роль в уходе гореть играли женщины. Дети обычно шли вместе с родителями или старшими братьями. Но самосожжение брата не всегда влекло гибель другого брата, если они были взрослыми (не детьми), и их потомству могла быть суждена долгая жизнь. Также старшие члены семьи не всегда гибли вместе с младшими, о чем говорит, например, история семьи Василия Чуракова. Трагедия его дальнего родственника Афанасия Чуракова позволяет понять некоторые механизмы, приводившие крестьян в скит, подготовленный к сожжению.
Несмотря на неточности в сведениях о возрасте крестьян и расхождения в названиях их деревень, данные государственных описаний подтверждают показания, полученные в ходе следствия по поводу Топецкой гари. Соединение этих источников и их последующая критическая интерпретация дают возможность проследить семейные связи участников гари, протянуть линии крестьянских родов от одного описания к другому, оживить сведения переписных книг и материалов ревизий и выйти на более глубокий уровень понимания крестьянской жизни на Русском Севере в середине XVIII века.