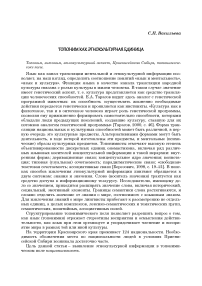Топоним как этнокультурная единица
Автор: Васильева Светлана Петровна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (14), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется семантическое поле этнотопонимов Приенисейской Сибири с целью выявления этнокультурной информации, выявляются причинно-следственные отношения между понятием и объектом. Появление этнотопонимов обусловлено ситуацией контактов русских с местным населением в XVII в., когда присвоение этнонимных названий устанавливало ментальную границу «свой - чужой».
Топоним, этноним, этнокультурный аспект, приенисейская сибирь, топонимическое поле
Короткий адрес: https://sciup.org/144153096
IDR: 144153096
Текст научной статьи Топоним как этнокультурная единица
Язык как канал трансляции ментальной и этнокультурной информации позволяет, на наш взгляд, определить соотношение понятий «язык и ментальность», «язык и культура». Функция языка в качестве канала трансляции народной культуры связана с ролью культуры в жизни человека. В таком случае значение имеет генетический аспект, т. е. культура представляется как средство трансляции человеческих способностей. Е.А. Тарасов видит здесь аналог с генетической программой животных: их способность осуществлять жизненно необходимые действия передается генетически и проявляется как инстинкты. «Культура как в филогенезе, так и в онтогенезе человека играет роль генетической программы, позволяя ему прижизненно формировать самостоятельно способности, которыми обладали люди предыдущих поколений, создавшие культуру, ставшую для их потомков аналогом генетической программы» [Тарасов, 2000, с. 46]. Форма трансляции национальных и культурных способностей может быть различной, в первую очередь это культурные предметы. Альтернативными формами могут быть деятельность, в ходе которой изготовлены эти предметы, и ментальные (психические) образы культурных предметов. Топонимисты отмечают высокую степень объективированности дискретных единиц ономастикона, включая ряд различных языковых носителей концептуальной информации в такой иерархии: внутренняя форма; деривационные связи; концептуальное ядро значения; коннотация; типовая (узуальная) сочетаемость; парадигматические связи; «свободная» текстовая сочетаемость; ассоциативные связи [Березович, 1998, с. 19—21]. В поисках способов извлечения этнокультурной информации лингвист обращается к двум системам: знания и значения. Слово (носитель значения) трактуется как средство доступа к информационному тезаурусу. Исследователю, имеющему дело со значением, приходится расширять значение слова, включая исторический, социальный, эмотивный элементы. Границы семантики слова растягиваются, и сложно отделить значение от знания о мире, соотносимого с языковым знаком. Для извлечения знаний о мире лингвисты прибегают к рассмотрению не отдельных единиц, а целых комплексов, лексико-семантических и тематических групп, семантических, понятийных, ассоциативных полей.
Структурирование топонимического поля позволяет разрешить вопрос о том, как язык (топонимия) отражает стереотипы восприятия и осмысления действительности, как язык при этом организует и упорядочивает членение и восприятие мира в рамках той или иной культуры.
На территории Красноярского края проживает 124 национальности. Необходимость обозначения места по национальности людей в условиях Приени-сейской Сибири возникала достаточно часто.
Цель данной статьи — выявление этнокультурной информации в топонимическом поле национальность .
Топонимический материал содержит прежде всего информацию о пространстве и стереотипах его восприятия и отражения в топонимии. Однако разграничивая топонимы на основании коммуникативно-прагматического принципа, выделяют топонимы отобъектные (мотивированные свойствами номинируемого объекта) и отсубъектные (мотивированные различными особенностями восприятия и выражения субъекта-номинатора). В частности, в топонимии Приени-сейской Сибири выделяется группа этнотопонимов, т. е. топонимов, мотивированных названиями народов и родов, проживавших на этой территории. Набор этнонимов с их семантикой национальности представляет эксплицитно выраженную информацию. При этом целесообразно учитывать ситуацию номинации: в ситуации номинации русскими номинаторами реализовалась задача обозначить «чужого». На этом основании выделяется ядро поля: этнотопонимы, образованные от эндемических этнонимов. В данный ряд входят топонимы от названий не только народов и народностей Приенисейской Сибири, но и их отдельных родов: абалаки (переходящие к оседлости камасинцы [Мельхеев, 1986, с. 59]) — Абалаковский улус, п. Абалаково, Абалаковская коса, Абалацкое подворье Туру-ханского Св.-Троицкого монастыря (кон. XVII — нач. XVIII вв.); аба (одно из сибирских племен, родственных кетам (не смешивать с аба хакасским, где это слово обозначает «медведь, медвежий» и связано с тотемизмом предков хакасов) [Мельхеев, 1986, с. 59]) — р., п. Абан; ага (тюркоязычное (очевидно, отюреченное) племя, являвшееся кыштымами енисейских кыргызов [Мельхеев, 1986, с. 60]) — р. Ага, с. Агинское, р. Агул, Агульское озеро, Агульские белки, ручей Агашка; ас , аса (самоназвание кетоязычного племени, кыштымов у киргизов [Мельхеев, 1986, с. 61]) — с. Асанск; ач , ачыг (древнетюркское племя, носители этого этнонима известны в Хакасии в виде отдельного рода ачин , ачак среди кызыльцев [Мельхеев, 1986, с. 61]) — г. Ачинск (1641 г.); бахтинцы (племя, упоминаемое в русских документах XVII в.) — р. Бахта, р., с. Бахта, р. Бахтахая; бирюсы (одна из группировок отюреченного охотничьего племени, обитавшего в отрогах Саян по рр. Бирюса, Бирюса (Она), Тасеева [Мельхеев, 1986, с. 69]) — р. Бирюса, л. пр. Ен.; Бирюса (Она), сливается с Чуной и впадает в Ангару; боготу (от кетско-го боготу (родовое название) [Мельхеев, 1986, с. 70]) — р., г. Боготол; иргит , ир-кит (названия племени, широко распространенного в прошлом в Южной Сибири) — р. Иргит; камас (камасинская народность, с древнейших времен обитавшая на территории Канского округа. В настоящее время эта народность полностью ассимилировалась и потеряла свой язык [Кривоногов, 1989]) — ж.-д. станция Камас, д. Камасинка; инбаки (кеты, платившие русским ясак, были записаны под тремя названиями — инбаки, земшаки, богденцы [Мельхеев, 1986, с. 83]) — р. Верхний Имбак, р. Нижний Имбак; карымы (метисы, родившиеся от смешанного брака русских и местных жителей, принявшие русские обычаи и образ жизни. Карым — от бурятского харим «чуждый», «отчужденный», «отделившийся». Название вошло в употребление с XVIII в. Карымов было много в Партизанском, Саянском, Абанском, Сухобузимском и других районах, где имелся близкий бытовой контакт с местным населением [Мельхеев, 1986, с. 88]) — д. Ка-рымская, д. Караим, с. Карымово, с. Карымское; кач, кача (от тюркско-самодийского каш , по названию древнего племени, обитавшего в лесостепных кочевьях у реки, которая впадает в Енисей. В результате фонетических изменений стало звучать у русских как качи (качинские татары) [Никонов, 1966, с. 185]) — р. Кача; кет (родовое самоназвание кетов [Воробьева, 1973, с. 90—91; Мельхеев,
1986, с. 90]) – р. Кеть, р. Большая Кеть; койбалы (неофициальное имя древнего хакасского племени – с. Койбалы; малканзеи (местное племя, что означает по-зырянски ‘народ на краю земли у моря’ (Урванцев, 1981)) – г. Мангазея (возник в 1600–1601 гг. как Мангазейский острог); остяки (под этим названием первоначально были известны ханты, затем это прозвище распространилось на селькупов и енисейских кетов) – д. Остяцкая, курья Остяцкая, ручей Остяцкий; самоеды (прозвищное именование енисейских кетов) – остров Самоедский; тиины (один из родов аринов, обитал в XVII в. по берегам реки, позднее перекочевал в Абинские степи, где вошел в состав хакасского народа. На языке хакасов тиин – «белка». Возможно, их так называли по роду занятий [Мельхеев, 1986, с. 120]) – р. Тинка, п. Тинский; тунгусы (эвенки) – р. Подкаменная Тунгуска, р. Нижняя Тунгуска; юраки (ненцы, самоеды) – р. Юрацкая.
Значительное количество этнотопонимов от названия народа татары отражает тот факт, что в быту русские называли татарами енисейских кетов, ка-чинцев и других, это своего рода тоже коллективное этнонимическое прозвище, которое реализовано в целом ряде гидронимов и топонимов: р. Татарка, п. Та-тарск, гора Татарка, гора Татарская, Татарский Лог, Татарский мост, Татарский осерёдок.
Периферию поля представляют славянские этнотопонимы: Русский лес, участок леса среди тундры в р-не п. Тухард – этноним актуализирован в названии потому, что территория тундры заселена в основном местным населением и там преобладают местные названия; д. Беларуска (Ем.) – название дано русскими как метка «чужого» во время переселенческой волны XIX в. Топонимы, образованные от прозвищного этнонима хохлы , встречаются довольно часто, т. к. переселенцы из Украины составляют большой процент жителей края по сравнению с другими национальностями (не считая русских). Хохлы – этнонимическое коллективное прозвище, которое распространено в смешанных по национальному составу деревнях. Например, д. Огоньки Балахтинского р-на подразделяется на хохлов и кацапов . Кацапы – это коллективный прозвищный этноним, которым украинцы называют русских. По прозвищу именуются и края деревни: хохлы живут На Хохлах, а кацапы – На Кацапах.
Поляки, сосланные после польского восстания 1831 г., оставили свой след в топонимии Сибири: р. Поляцкая, с. Польское, Поляков покос, Поляцкая заимка.
К дальней периферии поля принадлежат этнотопонимы от других этнонимов нашей многонациональной страны. От названий народов, живущих близко: буряты – Бурятские пашни, якуты – Якутская, гора, Якутский остров.
От названий народов России: коми , или коми-зыряне (финно-угры) – р. Зырянка – указывает на пути проникновения и передвижения коми-зырян по Восточной Сибири; калмыки – Калмыцкий поворот (там жили раньше пастухи-калмыки); народов бывшего СССР: молдаване – мельница Молдованиха; эстонцы – д. Эстония, Эстонские поля, Эстонские заимки, д. Эстония (живут эстонцы с фамилиями Кюберты, Линаски); прозвищное именование эстонцев чухонцы – Чухонские заимки; неоседлый народ цыгане – Цыганский мостик (стояли цыганские кибитки).
От названий народов других стран: турки – Турецкая гора; чуваши – д. Чувашка, Чувашский край в селе, Чувашово болото. От названий народов мира: китайцы – Китайские горы (раньше землю обрабатывали китайцы (1973 г.)); американцы – Американский луг.
Таким образом, извлечение этнокультурной информации из топонимического поля национальность обусловлено не только семантикой мотивирующих основ, но и причинно-следственными отношениями между понятием и объектом. В результате анализа этнотопонимов отмечаем: 1) эксплицитная информация о народах и народностях, селившихся на берегах Енисея, прочитывается из семантики апеллятивов (этнонимов), от которых образована большая часть этнотопонимов. Среди них выделяются этнонимы-самоназвания ( абалак, аба, ага, ас, ач, бахта, бирюс, кет, койбалы, малканзеи, тиин, остяк, тунгус, юрак ) и проз-вищные ( самоеды, хохлы, чухонцы ); имплицитно выражена дополнительная этнокультурная информация; 2) образование этнотопонимов связано с условиями совместного проживания разных народов на территории Приенисейской Сибири; 3) появление первых этнотопонимов обусловлено ситуацией контактов русских с местным населением в XVII в., когда присвоение этнонимных названий устанавливало ментальную границу «свой – чужой»; 4) появление отэтнонимных названий во время второй и третьей волны переселения в Сибирь связано с приходом людей той или иной национальности на обжитую русскими территорию, когда в условиях «вживания» переселенцев также актуализируется фактор «чужого».