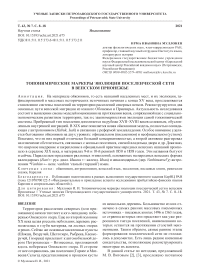Топонимические маркеры эволюции поселенческой сети в Вепсском Прионежье
Автор: Муллонен Ирма Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 7 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
На материале ойконимов, то есть названий населенных мест, и их эволюции, зафиксированной в массовых исторических источниках начиная с конца XV века, прослеживается становление системы поселений на территории расселений северных вепсов. Реконструируются два основных пути вепсской миграции из южного Обонежья и Присвирья. Актуальность исследования состоит в выявлении смены моделей именования на протяжении веков, сопряженной как с социально-экономическим развитием территории, так и с закономерностями эволюции самой топонимической системы. Прибрежный тип поселения дополняется на рубеже XVII-XVIII веков сележным, обусловленным внутренней миграцией. В XIX веке появляется новая ойконимная модель, полностью совпадающая с антропонимом (Habuk, Isak) и связанная с реформой землевладения. Особое внимание уделяется бытованию ойконимов на двух уровнях: официальном (письменном) и неофициальном (устном). Показано, что из них первый отличался большей консервативностью, а второй активнее реагировал на изменение обстоятельств, связанных с жизнью поселения, сменой владельца двора и др. Доказано, что широкое внедрение и закрепление в официальной практике народных вепсских названий произошло в середине XIX века, в материалах 9-й и 10-й ревизий 1850 и 1858 годов. Эти названия бытуют и сейчас. Параллельно предложен ряд новых этимологий, основанных на народных вепсских формах календарных (Isan' ←рус. диал. Ишаня ← календ. Иван) и некалендарных (дер. Vanhimansel'g: антропоним *Vanhim ← вепс. vanhim ‘самый старший') имен.
Ойконимия, антропонимия, вепсский язык, поселения, писцовые книги, ревизские сказки, карелия
Короткий адрес: https://sciup.org/147236215
IDR: 147236215 | УДК: 811.511.115'373.6+811.511.115'373.211 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.675
Текст научной статьи Топонимические маркеры эволюции поселенческой сети в Вепсском Прионежье
Территория расселения северных (или прионежских) вепсов тяготеет к юго-западному побережью Онежского озера. Еще во второй половине XX века целая россыпь небольших деревень располагалась в глуби материка, на лесных озерах и реках. Сейчас же основные населенные пункты (Шокша, Вехручей, Шелтозеро, Рыбрека, Каскес-ручей, Гимрека) прилегают к автомобильной дороге Петрозаводск – Вознесенье, проложенной вдоль побережья Онежского озера. В стороне от нее сохранились два поселения (Горнее и Матвеева Сельга), представлявшие в прошлом кусты
из нескольких деревень. Большинство из них отмечено в самых ранних массовых письменных источниках – писцовых книгах 1496 и 1563 годов, со страниц которых они предстают как уже разросшиеся гнезда поселений, наименования которых остаются на протяжении столетий неизменными. Таким образом, самые ранние этапы формирования поселенческой сети не отложились в документах. Есть лишь редкие косвенные свидетельства, позволяющие реконструировать некоторые их аспекты.
В данной статье по методике, предложенной М. В. Витовым [2], [3], прослежено поэтапное становление поселенческой структуры в ареале расселения северных вепсов в Прионежье на протяжении практически пяти столетий. Использованы материалы писцового дела XV– XVIII веков, ревизий XVIII–XIX веков и списки населенных мест XIX–XX веков. Привлечена также современная вепсскоязычная топонимия, которая собиралась в ходе полевого обследования на рубеже 1980–1990-х годов и хранится в Научной картотеке топонимов Карелии (далее КТК). В ряде случаев она сохраняет память о старых поселениях и их привязках.
ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ СЕТИ
Вепсское освоение западного Прионежья происходило с юга – из Присвирья и южного Обоне-жья. На это указывает древнее административное деление ареала. Северновепсская территория, которая сейчас осознается как единое целое – и в смысле географическом, и в плане языковом и историко-культурном, была в XV–XVII веках разделена административно таким образом, что южные поселения (Гимрека, Щелейки, Ка-скесручей, Рыбрека) входили в состав Оштин-ского погоста, в то время как северные (Шокша, Шелтозеро) – размещались на окраине Остре-чинского погоста Обонежской пятины. Центры обоих погостов располагались за пределами современного вепсского языкового ареала: в первом случае на южном берегу Онежского озера, во втором – на Свири. Не вызывает, однако, сомнения, что оба погоста объединяли земли с вепсским населением. Вепсскими обозначены некоторые ныне русские деревни, входившие в них, в позднем по времени «Списке населенных мест», составленном по сведениям 1873 года1. В этом контексте показательно, что название реки Остречины , притока реки Ивины, закрепившееся в наименовании Остречинского погоста, известно в вепсском бытовании как Ahnuz|d’ogi ‘окуневая река’. С учетом общего для Присвирья правила о вторичности русских речных именований по отношению к прибалтийско-финским топоним Остречина – результат ранней интеграции вепсского топонима в русское бытование, в нем вепсская топооснова переведена диалектным новгородским словом острец или остреч ‘окунь’ и оформлена русским «речным» суффиксом - ина , который традиционно использовался в западном Прионежье для адаптации нерусских потамони-мов (напр., Ивина, Марина, Важина и др.).
Логично полагать, что территорию погостов объединяли водные пути, то есть северные деревни вепсского Прионежья заселялись не вдоль побережья Онежского озера, а по внутренним водно-волоковым путям, позволявшим выходить из бассейна реки Ивины на реки Шокшу и Шелтозерку, стекающие в Онежское озеро. Косвенным подтверждением существования такого пути служит название села Шелтозеро – вепс. Šoutarv < Šoutjärv. Село стоит не на озере, а на реке Шелте или Шелтозерке, поэтому название выглядит на первый взгляд нелогичным. Озеро с названием Шолтозеро обнаруживается на плане генерального межевания конца XVIII века2 в истоках названной реки. Сейчас оно именуется Домашним – вепс. Kodidärv, при нем располагается куст поселений Горнее или Горное Шелтозеро – вепс. Mägi (mägi ‘гора’), упомянутое уже в писцовых материалах XVI века. Очевидно, название поселения, возникшего первоначально «на Шолт-озери»3, на водоразделе с бассейном р. Ивины, было перенесено в процессе освоения территории в низовья реки, где возник новый куст поселений, перетянувший на себя функции центрального в округе.
Память о новгородском этапе истории несет еще одно топонимическое свидетельство. В составе села Рыбрека в писцовых материалах 1496 года отмечается поселение с названием «На Рыбежне Большой Двор»4, которое воспроизводится затем и в последующих писцовых книгах в виде «На Рыбежне ж болшой двор манастырской приежей»5, «Против погоста Болшой Двор»6, пока деревня не сливается со смежными небольшими селениями в составе Погоста7. Большой Двор – это новгородский термин землевладения, называющий селения, в которые свозился оброк из подвластных деревень. В случае Рыбреки землевладельцем выступал новгородский Спасо-Хутынский монастырь. После присоединения Новгорода к Москве и конфискации земель Большие Дворы перестали быть центрами боярского и монастырского землевладения, однако Рыборецкий погост оставался вотчиной Хутынского монастыря вплоть до начала XVIII века, что способствовало сохранению топонима, который фиксировался в документах в виде Против Погоста Большой Двор до конца XIX века.
Привлечение материалов актов, берестяных грамот и других источников, а также археологические данные позволили доказать, что боярские Большие Дворы существовали в Обонежье уже в XIII– XIV веках [12: 119]. Теоретически эта ранняя хронология допустима и для рыборецкого Большого Двора, а значит, и для поселенческой истории вепсского Прионежья. Обычно принято считать, что этот регион, как малопривлекательный с точки зрения земледельческого освоения, заселялся вепсами позднее, чем южное Присвирье. Тем не менее применительно к нему можно с уверенностью говорить о начальных веках II тыс. н. э.
Динамика поселенческой структуры прослеживается по сохранившимся материалам писцовых книг для южной части ареала, входившей в состав Оштинского погоста, с конца XV века, для северной, что была в составе Остречинского погоста, – с середины XVI века8. Можно констатировать, что к этому времени сформировались несколько основных, сохранившихся до сегодняшнего дня так называемых гнезд, или кустов, поселений, тяготеющих к побережью Онежского озера. Рисунок наглядно демонстрирует, что структура южной части ареала с XV века практически не подверглась изменениям. Удивительно, что не только крупные кусты поселений, но и отдельные одиночные деревни отмечены более пяти столетий назад. В писцовых книгах XV–XVI веков упомянуты поселения На Хем-реке (совр. Гимрека - Hiimd’ogi), На Ры-бежне (Рыбрека - Kalag’), На Касть-ручью (Кас-кесручей - Kaskez), На Ропо-ручью (Ропручей -Ropei), но кроме них Самойловская (совр. Кукоев Конец – Kukagd’) и Агафоновская (Первакова – Pervakad), а также Ларионовская и Артемов -ская в составе Щелецкой волости (вепс. Kal’l’) по крайней мере с 1563 года. Меняются названия, но деревни продолжают свою жизнь.

Поселения вепсского Прионежья
Settlements of the Veps Prionezhye region
Вангиман-селга 10 , а в Переписной книге 1749 года «новопоселенные после прежней переписи новые починки» Вехк-ручей (совр. Вехручей - вепс. Vehkei), Кюря-селга (позднее Курселга; совр. Матвеева Сельга - вепс. Matfejansel’g), Леванова Сельга 11.
Ревизские сказки конца XVIII века дополняют этот список целой россыпью деревень, возникших на сельгах и при лесных озерах в окрестностях с. Шокша: Осиновая (совр. Габшема), Масляная Гора, Великий Ручей (совр. Тахкручей), Ка-чезеро, Лутозеро, Федоровская (совр. Ишанино) и др. На фоне Рыборецкой волости, где материалы переписи 1748 года фиксируют только придорожный Новый починок, для которого в ревизии 1850 года приведено также второе название Каккарова, такое разрастание поселенческой сети не может не обратить на себя внимания и требует объяснения. XVIII век, относительно спокойный, без войн и сильных потрясений, способствовал росту населения в старых поселениях, где свободных земель для пашни и сенокоса уже почти не было. Это привело крестьян к освоению пригодных для сельского хозяйства земель на Шокшинской гряде12, в пределах бывших Шокшинской и Шелтозерской волостей. При этом на территории исторической Рыборецкой волости за пределами рано освоенной прибрежной зоны практически не было пригодных для земледельческого освоения земель. Здесь местность изобилует водораздельными болотами, нет озер, побережья которых привлекают поселенцев. Недаром в условиях дефицита земель население издавна специализировалось здесь на каменотесном (в селах Ры-брека, Другая Река) и рыболовном (в селе Кас-кесручей) промыслах.
XIX век практически не породил новых поселений, что заметно на фоне ряда других районов южной Карелии, например Сямозерья [1]. Это, видимо, связано вновь с отсутствием свободных земель, пригодных для сельскохозяйственной обработки. В Рыборецкой волости в 9-й ревизии середины XIX века впервые упомянута Телаорга , в Шелтозерской в это же время – Габукова .
ОФИЦИАЛЬНЫЕ VS. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ОЙКОНИМЫ
Динамика формирования поселенческой сети, прослеживаемая по данным массовых источников (переписи, ревизские сказки, списки населенных мест), не всегда совпадает с динамикой развития самой ойконимической системы. Имеется в виду, что названия, зафиксированные еще в ранних памятниках, в целом достаточно устойчивы. Это утверждение актуально прежде всего применительно к именованиям кустов поселений, восходящих к наименованиям природных объектов. В меньшей степени устойчивость свойственна наименованиям некоторых одиночных деревень, входящих в эти гнезда и имеющих отантропонимные истоки.
Сквозной просмотр линейки документов позволяет увидеть, что значительная, если не подавляющая часть отыменных ойконимов, прослеживающихся еще с XV–XVI веков, сменяется в середине XIX века другими – тоже антропонимными – именованиями. Эта смена четко фиксируется 9-й ревизией 1850 года, в единичных случаях – несколько раньше (в 8-й ревизии 1834 года) или несколько позднее (10-й ревизии 1858 года). При этом новые названия, зафиксированные в это время, закрепляются в последующих документах и доходят, как правило, до наших дней. Они воспроизводятся и в вепсской устной практике в соответствующем вепсском виде.
В качестве примера привлечены именования поселений, входящих в куст поселений Горное Шелтозеро – вепс. Mägi (mägi ‘гора’), который имел достаточно четкую структуру. В предвоенное время он объединял пять деревень. Ниже приведена таблица, отражающая динамику смены ойконимов.
В связи с этой таблицей возникают два взаимосвязанных друг с другом вопроса: почему в середине XIX века произошла такая кардинальная смена именований поселений и откуда взяты новые названия? При этом следует понимать, что данный процесс был характерен не только для вепсских волостей. Он доказан для Кижской волости [4] и актуален для людиковского Прионежья [10]. Видимо, на самом деле он носил масштабный характер и был санкционирован каким-то специальным документом, который, к сожалению, не удалось пока отыскать. Такая корректировка была вызвана закреплением в официальной практике народных именований. В ранних писцовых и переписных книгах закрепилась двухчастная формула именования, включавшая географический компонент (по месту расположения) и антропонимический (по имени или патрониму поселенца): На Рыбежне Федоровская, На Шокши реке словет Силковская и т. д. Будучи единожды записанным, название, как правило, затем переходило из реестра в реестр, воспроизводя первичный антропоним. Для официального уровня именования эта преемственность была существенна с позиций владельческих отношений и налогообложения. Однако в устной народной среде такой жесткой преемственности не было. Бытовавшие в народной среде ойконимы живо реагировали на изменение обстоятельств, связанных с жизнью поселения, сменой владельца двора и т. д. Здесь складывались свои системы именования, не привязанные жестко к официальным именованиям реестров. В результате со временем мог образовываться разрыв между записанным и устным названием. Он был известен писцам, которые использовали формулу «а в волости зовут», «сло-вет» или «тож» для приведения официального имени в соответствие с народным: ср. входящие в состав Шокши деревни в конце XVI века Федо-товская, Олжеговская тож (Рыбрека), Олексеев-ская, Ондреевская тож16 (Шокша), Патракиев-ская словет у часовни и На Шокши же Ребуевская словет Парфеевская17, так что корректировки, вызванные переводом на официальный уровень народных именований, периодически проводились и прежде. Однако они не были столь масштабны, как в ходе 9-й ревизии. При этом понятно, что модификации на устном уровне бытования происходили и после ревизии, о чем убедительно свидетельствуют некоторые вепсские отан-тропонимные названия небольших поселений, не совпадающие с официальными русскими наименованиями поселений, напр., Onašk – офиц. Гузезеро, Ondr’ušk – Масляная Гора, Isak – офиц. Качезеро. Очевидно, данные вепсские ойконимы, в которых закрепилось именование жителя, возникли уже после середины XIX века и не успели войти в процесс перехода в статус официальных. Собственно, об этом свидетельствует и их структура: ойконимы, идентичные по облику антропо- нимам, в массе своей возникали на рубеже XIX– XX веков.
Другая ситуация во взаимоотношениях возникала, когда историческое название, зафиксированное в ранних источниках, затем на столетия исчезает из официальной практики и неожиданно появляется вновь в той самой 9-й ревизии, которая выносит в документальную сферу народные названия. В качестве примера приведем именование одной из деревень, входящей в состав села Шокши. Она отмечается как « на Сюрге Ордевская » в писцовой книге 1563 года, в последующие три века используется топоним Ортемовская или Артемовская и только в ревизии 1850 года вновь появляется Сюрьга , которая доживает до наших дней и бытует как в официальном русском виде, так и неофициальном вепсском ( Sürd’ ). Аналогичный пример – дер. Ропручей (вепс. Ropei, Ropoja ) в составе с. Рыбрека. Отмеченная в ранних источниках как На Рыбежне ж словет на Рупа-ручью 18 , На Ропо-ручью 19 , она затем исчезает со страниц реестров и карт, фиксирующих только отыменные названия отдельных деревень в составе Ропручья, вплоть до ревизии 1850 года, где фиксируется как Ропручей. Оба топонима, не будучи столетиями востребованными в документах, тем не менее не были утрачены, поскольку продолжали жить в вепсской народной языковой среде, и вернулись в них, то есть документы, в ходе кампании по приданию официального статуса неофициальным именованиям. Видимо, заточенность официального уровня номинации на отантропонимные именования вела к факультативности в употреблении именования местности. Сюрьга содержит в основе утраченный вепсскими говорами термин *sürj, *sürd’ ‘возвышенность, вершина’ [9: 63], мотивированный расположением деревни на возвышенности. Второй пример Ропручей – результат адаптации оригинального вепсского топонима Ropoja , в котором второй элемент -oja ‘ручей’, а первый допустимо связывать с вепс. roppaz , либо в значении ‘ледяной торос’, либо в том, которое фиксируется в родственных языках: ливв., люд. ruopaz ‘груда камней (на поле)’. В первом случае топоним обусловлен торосами, глыбами льда, которые образуются при впадении ручья в Онежское озеро. Вторая интерпретация связана с тем, что ручей вытекает из-под мощной скалы с названием Kal’l’ ‘скала’, протянувшейся на несколько километров вдоль побережья Онежского озера. Именно здесь более трех веков назад зародились ропручейские разработки габбродиабаза, и местность изобилует камнями.
Взаимодействие двух уровней функционирования: официального и народного – один из важных элементов в механизме развития ой-конима. При этом ведущим звеном в этом процессе является народная ойконимия, а официальная приводится периодически в соответствие с неофициальной. На каком-то конкретном этапе официальный ойконим может быть старше народного, однако в целом, в исторической перспективе, он вырастает из народного, вторичен по отношению к нему. В этом смысле можно говорить о том, что народный ойконим, собственно, старше официального. Другое дело, что недостаточно материалов, чтобы сказать, насколько старше. Редкая удача, если удается документально доказать возраст народного топонима.
ИМЯ ЧЕЛОВЕКА В ОЙКОНИМИИ
Если исключить вторичные в качестве ойкони-мов образования, воспроизводящие готовый топоним (типа дер. Tahkei – рус. Тахручей ), вся остальная совокупность ойконимов – и не только вепсского Прионежья – с точки зрения типовых основ может быть сведена к трем основным группам: образования, в которых закрепились термины природных и культурных ландшафтов ( Hapšom: вепс. hapšom ‘осинник’), так называемые ситуативные названия, характерные особенно для именования частей или концов внутри куста поселений ( Üližagd’ – Верхний Конец и Alažagd’ – Нижний Конец в составе Шелтозе-ра); посессивные топонимы, содержащие в основе именование человека. Последняя группа безраздельно доминирует над двумя другими, что, собственно, ярко характеризует сельскохозяйственный характер культуры.
Ойконимы – своего рода архив вепсских народных форм календарных имен, уже утраченных из активного бытования. Многие из них воспроизводят гипокористические формы, бытовавшие в смежных севернорусских говорах (приводятся по [11]) и вошедшие в вепсскую языковую практику:
Dimš – Димшина Гора : Димша ← Дмитрий или Никодим
Išan’ – Ишанино : Ишаня ← Иван
Mišukveh (- veh – суффикс с коллективной семантикой) – рус. Мишукова: Мишук ← Михаил
Zinkveh – Зиникова , в материалах XVIII века Зинко-ва 20: Зинка ← Зенон или Зиновий.
Во многих случаях вепсская языковая практика настолько видоизменяет традиционный русский народный вариант антропонима, что он утрачивает видимую связь с последним, так что официальный русский ойконим транслите- рирует вепсскую основу, совсем не соотнося ее с русской. Дер. Hamamättaz (вепс. Hama ← рус. Фома) в составе Шелтозера передана по-русски в виде Гамова Гора, а не *Фомина Гора, каковой, по сути дела, является. Вепс. Telaorg в Ры-борецкой волости в русском бытовании выглядит как Телаорга. В нем второй элемент -org ‘орга, т. е. дремучий лес, чащоба’, первый же не идентифицирован. Между тем зафиксированные в полевых материалах КТК вепсские варианты названия Terolg и Terugl указывают на явную диссимиляцию двух r в топониме и позволяют реконструировать его первоначальный облик в виде *Teraorg, где Tera ‘Терентий’.
Особый интерес представляют следы вепсского некалендарного именослова. Их не так много, но тем ценнее каждое такое свидетельство. Ниже приведено несколько реконструкций, основанных на топонимах с территории бывшей Шок-шинской волости, которая оказалась богата на такие примеры. Они обнаруживаются уже в ранней писцовой книге 1563 года, упоминающей, к примеру, дер. Керзоевскую : вепс. kärz ‘морда животного’, в переносной семантике ‘некрасивое лицо’, или дер. Келасово на Шокше21: вепс. kelaz ‘лжец, врун’. Прозвищная природа антропонимов хорошо прослеживается и по другим именованиям шокшинских поселений, сохранившихся до сегодняшнего дня. Среди них название деревни Voinikišt (рус. Войниковская ) – одного из концов поселения Средь-Волость в составе с. Шокши. Он маркирован суффиксом - išt с коллективной семантикой, характерной для северновепсской ойконимии, ср. дер. Deremišt , Vasilišt, Fedorišt , которые могут быть интерпретированы как ‘род Еремея или Еремеевы; род Василия или Васильевы; род Федора или Федоровы’. В этом ряду Voinikišt ‘семья, род Voinik или Войниковы’. Поселение ведет свои истоки, возможно, от дер. на Шокши реке словет Воинковская 22 . Происхождение антропонима затемнено, хотя в его истоках не исключается вепсский аналог (*voinik) карельского voiniekka, voiniekku ‘торговец масла’23.
Дер. Пинжаково – вепс. Pinč ~ Pinž – тоже часть Средь-Волости. Именная природа ойкони-ма подтверждается бытующей в Шокше фамилией Пиджаков, имеющей прозвищное происхождение, ср. вепс. pinž ‘вульва’24. В одном ряду название дер. Пижевичи (Свирско-Оятский водораздел), а также ливвиковская фамилия Piidžu – рус. Пижуев и карел. дер. Pižul – рус. Пижула [5]. Прозвища или некалендарные имена, восходящие к наименованиям женских или мужских половых органов, нередки в прибалтийско-финской антропонимии [9: 96].
Ваньгимова Сельга – вепс. Vanhimansel’g – се-лежная деревня, возникшая в ходе сельскохозяйственного освоения водоразделов в XVIII веке в верховьях реки Шокши: Явилась вновь Ванги-ман-селга 25 . Сохраняет родовое имя основателя поселения, вепс. *Vanhim, от приб.-фин. vanhin < *vanhim ‘самый старший’.
Гёрча – вепс. Hörč упоминается в документах как Дерчевская (Герчевская), вновь заве-денная 26, Герчековская (Герчевская) пустошь 27 . Судя по документам, просуществовав недолгое время на рубеже XVIII–XIX веков, название поселения исчезает из официальных источников. Однако оно известно в вепсском неофициальном бытовании по сей день. Возникло на основе родового патронима *Hörč или *Hörčak, ср. hörčak ‘сильный, здоровый (о человеке)’28. Прозвище, в свою очередь, появилось как метафора вепс. hörč ‘остожье (жердь с сучками для сушки сена, снопов)’. Конечный элемент - k в hörčak (см. исторический вариант топонима Герчек[овская] ) должен квалифицироваться как суффикс c семантикой ‘подобный тому, что выражает производящая основа’. Впрочем, не исключается и другой путь развития метафоры: остожье → непокладистый человек, задира. Он естественен с позиций языкового образа и подтверждается косвенно аналогичным семантическим сдвигом в лексеме kärbuz ‘остожье’, но также ‘непокладистый чело-век’29. Еще одно косвенное свидетельство в пользу такой возможной семантики антропонима обнаруживается в материалах ревизских сказок, где под 1795 годом отмечаются рядом два новых поселения: Герчевская и Буторовская , при этом первое вскоре исчезает из списков, а второе благополучно доживает с этим названием до СНМ 1873 года, где отмечается как часть поселения Средь-Волость. В этой связке важно то обстоятельство, что в именовании Буторовская скрыт русский диалектный термин бутора ‘упрямый человек’30. Иначе говоря, рус. бутора и вепс. hörč семантически равнозначны, и в связке со смежным расположением деревень заманчиво полагать, что русское название – перевод вепсского. Вепсское ушло на неофициальный уровень, а русское стало его официальным соответствием. Это не какой-то уникальный случай для ойконимии Карелии, где нередко официальное название возникало как перевод народного вепсского или карельского. В вепсском Прионе-жье дер. Сорокина Гора – вепс. Haragonmättaz ( harag ‘сорока’, mättaz ‘гора’) в составе с. Горнее, Собакина Гора – вепс. Koiranmägi (koir ‘собака’) в Другой Реке, Средь-Волость – вепс. Kes’kul’ < * Kes’kkülä в Шокше и др.
В целом таких названий поселений, как Бу-торовская , то есть опирающихся на русские некалендарные имена и прозвища, единицы: дер. Ожеговская в составе Рыборецкой волости, Ку-дряцовская в Шелтозере, Гороховская в Шокше в XVIII–XIX веках, Первакова (вепс. Pervakoi или Pervakad ) в составе Рыборецкой волости (см. мотивацию русских имен в [7: 392]). Каждое из них дает повод задуматься об их появлении в сугубо вепсской среде. Помимо перевода, калькирования оригинального вепсского ойко-нима на русский язык за ними теоретически может стоять русский поселенец или же русское имя могло быть усвоено в вепсское бытование. Последний случай разобран Д. В. Кузминым [6] применительно к карельской топонимии.
Ойконимический материал северновепсского Прионежья позволяет наметить один важный с точки зрения этнокультурной истории ареала поворот – следы карельского именослова в вепсском Прионежье. Он обоснован тем, что в языковом и культурном наследии этой территории прослеживаются отчетливые карельские вкрапления [8]. Понятно, что в силу единых истоков вепсской и карельской традиций карельские следы в топонимии обнаруживаются только на основе дифференцирующих карельских маркеров, отличающих карельское в истоках своих именование от вепсского. Таковыми могут быть специфические карельские отантропонимные основы или фонетически дифференцированные именования. К первым можно, очевидно, отнести название деревни Каккарово , упомянутой в составе Рыборецкой волости в 1748 году как Новый Починок и под этим названием известной последующим документам. Как Каккарава топоним квалифицирован в ревизии 1850 года, что, как уже понятно в контексте анализа взаимоотношения официальных и неофициальных ойконимов, не означает, что он появился только в середине XIX века. В это время он, будучи народным, лишь перешел в статус официального.
К сожалению, нет надежной документальной базы для установления времени рождения народного ойконима. В принципе ничто не мешает полагать, что он появился одновременно с появлением самого поселения в XVIII веке и в нем закрепилось родовое имя основателя поселения *Kakkara. Соответствующий апеллятив отсутствует в вепсских говорах, зато хорошо известен карельским как kakkaro ‘катыш’31, kakkara ‘ком, комок; кусочек теста; кучка навоза округлой формы’, kakkareh ‘небольшой шарик из теста, который раскатывается в пирожок’. С позиций именования человека существенно то, что основа востребована в карельских говорах в переносной семантике: kakkaraine ‘маленький ребенок’, kakkareh ‘маленький ростом, тщедушный ребенок’, kakkero ‘о маленьком, хилом на вид чело-веке’32. Этот ряд подтверждается и материалами восточных финских говоров, где примерно в такой же прямой и переносной семантике бытует kakkara, kakara. Слова этой группы никак не проявились в вепсских говорах, так что истоки ойко-нима логично искать в карельском языке.
Второй пример – название исторической деревни Изинская 33, Хизинская или Гизинская 34 в составе Шокшинской волости, вошедшей позднее в состав шокшинской деревни Васильев-ская35. В ее истоках логично реконструировать антропоним *Hiizi ← карел. hiizi ‘черт, леший’. Прозвищные именования с подобной семантикой хорошо известны в карельском именослове. Обращение к карельскому, а не вепсскому источнику обусловлено специфически карельской фонетической особенностью: свистящий z в позиции после i . Вепсский аналог имел вид hiž, в позиции после i здесь закономерно выступает ž . Оба топонима могли возникнуть в результате карельского (точнее, собственно карельского) проникновения в Прионежье в XVIII веке.
В заключение еще один важный сюжет в контексте этой статьи, связанный с функционированием имени человека в ойконимии. Анализ структурных моделей отантропонимных именований выявил связь некоторых из них с хронологией рождения ойконимов и их ареальным членением. Привлечение письменных источников убедительно доказывает, что модель «антропоним + Сельга / -сельга», в которой вепс. sel’g ‘сельга, гора, поросшая лесом, использовалась под разделку подсек’, актуализируется в первой половине XVIII века, именно в это время впервые в источниках упоминаются Ваньгимова Сельга (в виде Вангиман-селга ) / Vanhimansel’g, Матвеева Сельга (как Кюря-селга ) / Matfejansel’g, Леванова Селга / Levonansel’g, в конце века Крюкова Сельга (первоначально, начиная с переписи 1749 года, бытует под именем Шокшезеро) / Krik, Krikunsel’g. К этому же времени относится и появление «сележ-ных» поселений в соседней Ладвинской волости: Ужеселга упоминается в 1707 году, Педаселга и Ревселга в 1720 году. Данный топонимический факт служит маркером внутренней миграции, развернувшейся в XVIII веке в связи с потребностью освоения свободных земель, пригодных для земледелия.
Своей четкой спецификой на этом фоне обладает модель «антропоним + Гора» (вепс. детерминант -mättaz ‘горка’), использующая другой термин возвышенного рельефа. Ойконимы модели Минина Гора / Minamättaz, Мелькина Гора / Mel’kamättaz,
Петрова Гора / Pedrimättaz маркируют деревни, входящие в состав кустов поселений. К сожалению, нет четких критериев для обоснования возраста этой модели, поскольку она поздно появляется на официальном уровне именования. Как правило, первые фиксации относятся к 9-й ревизии 1850 года, которая, как выше отмечалось, выводила в сферу официального бытования народные ойконимы, установить доподлинно время появления которых невозможно. Вот как выглядит, к примеру, последовательный ряд упоминания в реестрах деревни Минина Гора в составе села Шелтозеро:
Дер. Елексеевская (1582) → пустошь Олексеевская (1617) → что была пустошь Алексеева у речки Шел-тозерки (1707) → что была у речки Шелтозерки пустошь (1749) → что была у речки Шелтозерки пустошь (1782) → у речки Шелтозерки \ Минина Гора (1850) → вепс. Miinamättaz .
Ойконим Минина Гора отмечен документально в середине XIX века, хотя последовательное привлечение доступных источников доказывает, что само поселение зафиксировано уже в писцовой книге XVI века. Последующие реестры ориентировались на первую запись, при том, что на какое-то время на рубеже XVI–XVII веков деревня запустевала. Не исключено, что народное именование могло обновиться как раз на этапе возрождения поселения на месте пустоши, однако доказать это невозможно. В плане типологии существенно, что модель воплотилась также в соседней с Шокшинской исторически вепсской Ладвинской волости на р. Ивине, где, по материалам КТК, около десятка поселений имеют в своем названии элемент Горка ( Канашкина Горка, Курикова Горка, Трешкина Горка, Фенькова Горка и т. д.). При этом, однако, модель оказалась не востребованной в ойконимии Рыборецкой волости, как, впрочем, и соседней Оштинской волости. Какие за этим размежеванием стоят процессы – пока не вполне ясно.
Выявляется еще одна показательная в плане хронологии модель: простые по структуре ойконимы, по форме совпадающие с антропонимом: дер. Isak (рус. Качезеро), Ondr’ušk (рус. Масляная Гора), Išan’ (рус. Ишанино), Onašk (рус. Гузозеро), Lučk (рус. Лучкина Гора), Habuk или Habukad (рус. Габуки или Габуково) – антропоним Habuk, фамилия жителей Габуковы (вепс. habuk ‘ястреб’) и др. Часть этих топонимов фиксируется начиная с середины XIX века, другие вообще не отразились в письменных реестрах, то есть не успели обзавестись письменной историей. На официальном русском уровне бытования продолжают использоваться исторически более ранние именования, как правило, не антропонимные по своим истокам. Историческим фоном формирования этой ойконимной модели являются события пореформенного устройства крестьянства в конце XIX века и Столыпинской реформы начала XX века. Они были связаны с созданием слоя хозяйственно активных земельных собственников, что и отразили их неофициальные, реже официальные именования.
ВЫВОДЫ
Становление ойконимической системы вепсского Прионежья, засвидетельствованное документально, происходило на протяжении последних пятисот лет. Действовали разнонаправленные тенденции: с одной стороны, стремление официального уровня именования к стабильности, с другой – нестабильность народной ойконимии. Доказано, что взаимодействие двух уровней функционирования: официального и народного – один из важных элементов в механизме развития ойконима. Об инновативном характере народной ойконимической системы и непрерывном процессе формирования новых названий убедительно свидетельствуют поле- вые материалы, которые в целом ряде случаев демонстрируют несовпадение официального и народного ойконима. Последние появились позднее, чем произошла глобальная корректировка ойконимической системы середины XIX века, зафиксированная в 9-й ревизии и связанная с выведением народной ойконимии на официальный уровень именования. Современные официальные именования в целом наследуют традицию, сложившуюся в то время. Однако народная ойкони-мия продолжала развиваться и видоизменяться и после этого, что и засвидетельствовали многие вепсские именования деревень, не совпадающие с русскими.
В становлении и развитии ойконимической системы региона ведущую роль сыграла антропонимия, ибо абсолютное большинство наименований поселений образовано от календарных или некалендарных имен. При этом выявилась хронологическая и географическая приуроченность определенных моделей номинации, которые, таким образом, могут быть маркерами формирования самой поселенческой структуры.
Список литературы Топонимические маркеры эволюции поселенческой сети в Вепсском Прионежье
- Афанасьева А. А. Эволюция ойконимической системы Сямозерья // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42. № 7. С. 64-71. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.540
- Витов М. В . Историко-географические очерки Заонежья XVI-XVII веков. Из истории сельских поселений. М.: Изд-во Московского ун-та, 1962. 290 с.
- Витов М. В., Власова И. В. География сельского расселения Западного Поморья в XVI-XVIII веках. М.: Наука, 1974. 190 с.
- Воробьева С. В . Деревни Кижской волости в XVI - начале XX в. (по архивным источникам) // Церковь Преображения Господня на острове Кижи: 300 лет на заонежской земле: Сб. ст. Петрозаводск: Издательский центр музея-заповедника «Кижи», 2014. С. 229-256.
- Карлова О. Л. -L-овая модель в топонимии Карелии: Дис. ... канд. филол. наук. Петрозаводск, 2004. 230 с.
- Ку зьмин Д. В . К реконструкции древнекарельского именника // Вопросы ономастики. 2020. Т. 17. № 2. С. 9-35. DOI: 10.15826/vopr_onom.2020.17.2.016
- Кюршунова И. А. Словарь некалендарных личных имен, прозвищ и фамильных прозваний СевероЗападной Руси XV-XVII вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. 672 с.
- Зайцева Н. Г., Муллонен И. И., Мызников С. А., Жукова О. Ю., Бродский И. В. Лингвистический атлас вепсского языка. СПб.: Нестор-История, 2019. 574 с.
- Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994. 156 с.
- Муллонен И. И., Жуков А. Ю. Динамика развития ойконимической системы в северолюди-ковском языковом ареале // Научный диалог. 2020. № 5. С. 113-131. DOI: 10.24224/2227-1295-2020-5-113-131
- Петровский Н . А. Словарь русских личных имен. М.: Русский язык, 1984. 384 с.
- Спиридонов А. М. Западное Прионежье: из «саамского железного века» в Средневековье. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. 162 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://carelica.petrsu.ru/ Reading_hall/SPIRIDONOV/Spiridonov.pdf (дата обращения 15.03.2021).