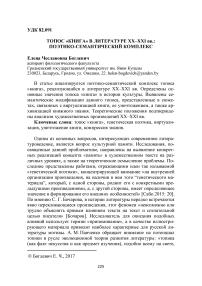Топос "книга" в литературе ХХ-ХХ1 вв.: поэтико-семантический комплекс
Автор: Богдевич Елена Чеславовна
Журнал: Мировая литература в контексте культуры @worldlit
Статья в выпуске: 6 (12), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется поэтико-семантический комплекс топоса «книга», реализующийся в литературе ХХ-ХХ1 вв. Определены основные значения топоса «книга» в истории культуры. Выявлены семантические модификации данного топоса, представленные в сюжетах, связанных с виртуализацией книги, ее уничтожением, а также архивизацией книжного знания. Теоретические положения подтверждены анализом художественных произведений ХХ-ХХ1 вв.
Топос «книга», генетическая поэтика, виртуализация, уничтожение книги, компрессия знания
Короткий адрес: https://sciup.org/147230266
IDR: 147230266 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Топос "книга" в литературе ХХ-ХХ1 вв.: поэтико-семантический комплекс
эволюционирует. Поэтому один и тот же сюжет в разных эстетических системах обретает специфический смысл» [Панченко 1986: 240]. Топос эволюционирует в процессе развития культуры; универсалией становятся лишь те топосы, семантическое ядро которых соотносится с вечными ценностями, передающимися из поколения в поколение.
В начале XXI в. Ричард Докинз выдвинул концепцию, согласно которой всей человеческой культурой управляет единица-репликатор – мем (ученый-биолог применил к культуре принципы развития биологических видов): «Передача культурного наследия аналогична генетической передаче: будучи в своей основе консервативной, она может породить некоторую форму эволюции <…> Мемы распространяются <…> переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией (по Р. Докинзу – аналогом естественного отбора. – Е. Б. ). Если идею подхватывают, она распространяется, передаваясь от одного мозга к другому» [Докинз 2013: 291, 295].
На наш взгляд, изучение топоса как генома памяти (элемента, который передается из одной культурной эпохи в другую, сохраняя семантическое ядро, при этом «обрастая» новыми компонентами смысла) может стать одним из направлений развития генетической поэтики. Топика концентрирует в себе вечные ценности культуры, следовательно, художник сознательно или бессознательно вводит в свои произведения топосы, общие места, универсалии, что позволяет соотносить новое творение с уже существующими, находить, с одной стороны, смысловое единство образов, с другой стороны, отмечать индивидуальность авторских интерпретаций данных констант.
Носителем культурной памяти на протяжении столетий выступает Слово (Логос), это, в свою очередь, находит отражение в постоянном присутствии в культуретопоса «книга». Данный топос несет гармонизирующее начало, однако, изменяясь под влиянием эпохи, становится носителем качественно новых идей. Топос «книга» является структурно неоднородным, внимание к тому или иному аспекту понимания книги обусловлено, прежде всего, основными ценностями, характерными для эпохи и нации. Представление о мире как книге – основополагающая метафора культуры человечества в целом.
Утвердившаяся в античности дихотомия «вещь – слово» преобразуется в модель мир-книга: мир является означаемым, книга – означающим. Модель мир-книга предполагает видение мира, природы как текста, который нужно прочесть, или шифра, который необходимо разгадать. В архаической концепции книга воспринимается как нечто закрытое, таинственное, имеющее иррациональную природу. В созда- нии книги жизни человек не участвует. Образ мир-книга в эпоху становления христианства соотносится с представлением о природе как книге (в основе такого сравнения – закрытость и сакральность природы, противостоящая языческой модели открытого космоса). «Природа стала для средневековых людей книгой, “написанной десницей Божьей”» [Воскобойников]. Христианское понимание мира как книги связано прежде всего с идеей Библии как Слова Божьего, сотворившего мир. В эпоху Возрождения книга соотносится с изобразительным искусством, отсюда возникает и специфическое понимание мира как творения человека (ср. христианское понимание авторства Бога). Антропоцентризм эпохи Возрождения подразумевает веру в безграничный творческий потенциал человека, в его разум, поэтому природа воспринимается как открытая книга, которую человек способен дописать. В этом контексте правомерно восприятие создателя художественного текста как творца Вселенной. «Для просветителей ХVII века метафора книга – врачебница, аптека, располагающая исцеляющими лекарствами на “хворобы душ людских”, книга – “врач премудрый”, избавляющий от всякого недуга душевного и телесного, является уже общим местом в многочисленных предисловиях и послесловиях» [Сазонова 1981: 149]. Эпоха романтизма, утверждавшая невозможность постижения природы человеческой жизни посредством разума, также обращается к метафоре мир-книга. Обращаясь к Библии как модели мира, писатели-романтики актуализируют трансцендентную природу Библии. Переход от Просвещения к Романтизму (рубеж XVIII‒XIX вв.) был, безусловно, кризисным периодом, поэтому обращение к модели мир-Библия вполне закономерно. Мастера слова часто обращались к Библии в поисках вечных истин, при этом Книга книг подвергалась переосмыслению и адаптации.
Христианскую эпоху – вплоть до середины ХХ в. можно назвать эпохой логоцентризма. Вера в безграничную силу Слова, всевозможные приемы работы с его семантикой и формой выражения были своеобразным знаком времени. Мир, помещенный в книгу, и человек, существующий в этой книге, стали предметом рефлексии многих как русских, так и западноевропейских писателей.
Образ книги в литературе ХХ – начале XXI вв. выступает как сюжетообразующий фактор. Ядро топоса «книга» остается неизменным, отсылает к поэтико-семантическому комплексу, в основе которого лежит представление о книге как источнике знаний. Это, с одной стороны, соответствует античным представлениям, с другой стороны, отсылает к христианской символике. В то же время вокруг топоса «книга» в зависимости от аксиологических установок образуется ва- риативное поле сюжетов: виртуализация, исчезновение книги, компрессия книжного знания.
В первой половине ХХ в. появляются тексты, отражающие кризис книжности. Так, в произведениях С. Д. Кржижановского зачастую Слово выступает в качестве героя, следовательно, мир его существования – книга. В повести «Клуб убийц букв» (1929) писатель акцентирует внимание на образе книги как метафоре уходящего мира, исчезающих ценностей. Пустые книжные полки являются носителями истинного знания, только убитые замыслы не лгут – так считают герои повести С.Д. Кржижановского.
Содержание повести Кржижановского исследователи часто соотносят с сюжетом антиутопии, обращая внимание на отражение «карнава-лизованной» реальности (члены клуба собираются в наполненной пустотой комнате, где делятся собственными замыслами; руководитель клуба ставит ненаписанные книги на пустые полки). Председатель Клуба убийц букв вынужден продать свою библиотеку. В опустевшей без книг квартире герой мысленно читает отсутствующие тома: «Удалось. Я мысленно перевернул страницу-другую» [Кржижановский 2001: 10]. Виртуализация книжного знания, по Кржижановскому, единственно возможный способ существования художника слова в современности. Печатное слово больше не является носителем истины, только замыслы, существующие в полной изоляции, представляют собой образец истинного знания.
Подобный сюжет представлен в повести Э. Канетти «Ослепление» (1935). Главный герой – ученый-синолог Кин, для которого нет ничего дороже собственной библиотеки, поэтому, оказавшись разлученным с книгами, профессор восстанавливает их дословно в памяти. И хотя ученый-синолог обладает немалой суммой денег, он предпочитает «носить» отсутствующие книги в памяти, причем, останавливаясь в гостиницах на ночь, выбирает номер побольше, чтобы «выгрузить» книги (для этого он и выстилает пол номера чистыми листами бумаги). Зафиксированные в голове книги – единственный способ сохранения истинного знания в эпоху социальных катаклизмов. Книги явно обесцениваются, на первый план в общественном сознании выходят экономические проблемы, социальный статус. В произведениях С. Д. Кржижановского и Э. Канетти книга является символом целостного мира, гармоничного состояния уходящей в прошлое эпохи. Смена ценностных полюсов проявляется в отрицании книжного знания, что характерно для социокультурной ситуации, сложившейся как в России, так и в странах Западной Европы.
Актуализация аналогичной семантики топоса «книга» характерна и для следующих периодов развития истории литературы. В 1950-е гг. тема виртуализации книжного знания была разработана Р. Бредбери в романе «451 градус по Фаренгейту». В современной литературе традиции американского фантаста развивает В. Моэрс. В романе «Город мечтающих книг» (2007) представлены фантастические персонажи (циклопы), отождествляющие себя с конкретными писателями; цель персонажей – сохранить в памяти книги избранного автора. Под влиянием постмодернистской поэтики идеи Р. Брэдбери трансформировались: в романе на первый план выходит игровое начало. Имена представителей классической литературы зашифрованы, представлены в виде своеобразного ребуса, который читатель должен разгадать (подсказками становятся цитаты из произведений, а также их названия): «Кипьярд Глендинг был одним из моих любимых писателей. Он написал “Мальчик из джунглей”, чем уже, на мой взгляд, завоевал себе бессмертие» [Моэрс]. Очевидно, что речь идет о «Книге джунглей» Редьярда Киплинга. Помимо «зашифрованных» реальных писателей в произведении представлены и вымышленные, например, Данцелот Слого-токарь. В контексте избранной нами темы важно, что именно циклопы-книги помогают главному герою, спасая его от смерти. Таким образом, несмотря на существенные трансформации, традиционный поэтико-семантический комплекс топоса «книга» (идеи гармонии, спасения, т.е. ядро топоса) представлен и в данном тексте.
Кризис гуманистического взгляда на мир реализуется в семантике исчезновения, уничтожения книги. Подобная сюжетная ситуация представлена в названном произведении Р. Бредбери: книги подвергаются уничтожению, запрещаются. Однако потребность в сохранении книжного знания остается, именно с ним связана идея спасения человечества. В начале XXI века отказ от книги осмысливается писателями не как принуждение, а как добровольный выбор людей. В повести Вс. Бенигсена «ГенАцид» (2008) книга представлена как часть умирающей гуманистической культуры, в руках необразованного человека становящийся инструментом убийства. Финал произведения вполне объясним: библиотека, храм книги, сожжена вместе с библиотекарем, хранителем книжного знания.
Характерная для современного искусства идея компрессии знания находит отражение в семантических модификациях сюжета, в центре которого находится топос «книга»: традиционный образ библиотеки как хранилища знаний уступает место субтопосам «каталог» и «архив». В повести Ж. Сарамаго «Книга имен» (1998) пространством развития действия является архив, что, во-первых, реализует метафору человек – книга (главный герой коллекционирует биографии знаменитостей); во-вторых, отражает такую тенденцию современного искусства, как стирание границ между собственно произведением искусства (книгой) и жизнью; в-третьих, подтверждает тезис о компрессии знания (жизнь человека подменяется записью в личном деле). Формируя «Книгу имен», главный герой пытается сохранить память о человеке, однако когда возникает необходимость восстановить события жизни по записям в личном деле, это оказывается невозможным: поиски приводят героя на кладбище, где некий человек меняет таблички на свежих могилах, а значит, поиски бессмысленны.
В повести Т. Хюрлимана «Фройляйн Штарк» (2004) реализован субтопос «каталог», функционирующий в системе субтопоса «библиотека», семантика последнего соотносима с музеем, в котором собраны некие символические ценности, объекты, потерявшие свою актуальность. Книги предстают в виде каталожных карточек, число которых множится с каждым годом, в то время как сами книги утрачивают интерес для читателя и фигурируют скорее как раритетные издания, в которых привлекателен не смысл, а внешний вид, что отражает специфику современной социокультурной ситуации: уходит в прошлое (умирает) культура, то, что было наполнено жизнью – телесными радостями, духовными поисками, оказывается мертвым, превращаясь в карточки.
Несмотря на то что идея компрессии знания является типичной для современной социокультурной ситуации, подобные мотивы можно отыскать и в более ранних произведениях. Так, одним из первых художественных текстов, предрекающих процесс архивизации культуры, достигшей пика на рубеже веков, стал рассказ С. Цвейга «Мендель-букинист» (1929), главный герой которого – человек-картотека, способный моментально дать сведения о любом книжном издании.
Таким образом, аксиологическая составляющая топоса «книга» подвергается пересмотру в каждый из переломных моментов развития истории: книга, которая была культурным символом «эпохи Гуттенберга», постепенно исчезает, сдавая свои позиции новым носителям информации. Изменяется и отношение к накопленным культурным ценностям: если писателями первой половины ХХ века исчезновение книги осмысливается как катастрофа, преодоление которой возможно лишь при сохранении книги в сознании человека, то антиавторитарность взглядов писателей-постмодернистов проявляется в акценте на невостребованности книги.
Актуализация топоса «книга» происходит в ситуациях переходности, исторического кризиса. Это обусловлено специфической функци- ей книги как явления культуры: на протяжении столетий она ассоциируется с представлением об идеальном знании, которое помогает человечеству находить пути к гармоничному существованию. Естественно, что интерес к образу книги, а также собственно к книге как культурному объекту характерен не только для литературы, но и для других областей искусства.
Так, немецкий художник Квинт Бухгольц (род. в 1959) написал серию философских картин, посвященных книге, в которых затрагиваются проблемы взаимоотношения ее с человеком («Баланс книги», «Однажды утром в ноябре», «Конец истории»). Основная идея Бухгольца – невозможность будущего без памяти о прошлом, бережно хранимом книгой. В архитектуре последних десятилетий также можно отметить внимание к книге, которая выступает в качестве прообраза здания, отсюда – интересные архитектурные решения. Необходимость сохранения памяти культуры посредством топоса «книга» отчетливо прослеживается в идеях современной скульптуры. Интересным явлением современного искусства, широко представленным в творчестве Ансельма Кифера (род. в 1945), стали специфические инсталляции библиотек из оловянных книг (1985–1990), которые можно достать с полки и открыть: на листах – фотографии вод и камней, а также следы глины, соломы и земли. «Современность Кифер готов “закатать” в бескрайнее мифическое прошлое и залить металлом тяжелой памяти» [Андреева 2007: 251]. Кроме того, топос «книга» активно используется современным кинематографом: зачастую спасение книги означает возможность предотвращения апокалипсиса.
Таким образом, поэтико-семантический комплекс топоса «книга» в литературе ХХ векареализуется в мотивах, связанных с:
-
1) ментальной формой существования книги;
-
2) уничтожением гуманитарного знания;
-
3) архивизацией книги.
Данные элементы семантики топоса «книга» проявляются в произведениях по-разному, оставаясь при этом тесно взаимосвязанными. Поэтому при анализе текстов достаточно трудно использовать хронологический принцип: один и тот же компонент смысла присутствует в произведениях разных эпох, эстетические установки которых, безусловно, оказывают влияние на непосредственную реализацию образа в тексте, однако ядро семантического комплекса остается неизменным. Ю. М. Лотман отмечал: «Являясь важным механизмом памяти культуры, символы переносят тексты, сюжетные схемы и др. семиотические образования из одного ее пласта в другой. Пронизывающие диахронию культуры константные наборы символов в значительной мере берут на себя функцию механизмов единства: осуществляя память культуры о себе, они не дают ей распасться на изолированные хронологические пласты» [Лотман 1996: 148]. Фактически топос «книга» соотносится с понятием символа, о котором рассуждает Ю. М. Лотман. В диахроническом срезе литературы ХХ–ХХI веков прослеживается способность данного топоса к «единению» разрозненных литературных произведений.
Ядром поэтико-семантического комплекса топоса «книга» является сема «знание». В литературе первой половины ХХ века дополнительным семантическим компонентом, как правило, является «спасение» (реализуется в сюжетах виртуализации книги), во второй половине столетия типичным становится антонимичное значение – «уничтожение». Однако элементы данной дихотомии обусловливают друг друга, динамика значений подобна движению маятника. В литературе начала ХХI века появляется качественно новый семантический уровень – архивизация книжного знания.
Список литературы Топос "книга" в литературе ХХ-ХХ1 вв.: поэтико-семантический комплекс
- Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX -начала XXI веков. СПб.: Азбука-классика, 2007. 488с.
- Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. URL: http://www.libros.am/ book/read/id/347738/slug/füologicheskie-syuzhety (дата обращения: 21.06.2017).
- Воскобойников О. Мир как книга. URL: https://books.google.by/ books?id=GxB2BwAAQBAJ&pg=PT6 (дата обращения: 13.04.2016).
- ДокинзР. Эгоистичный ген. АСТ, Corpus, 2013. 320 с.
- Кржижановский С. Д. Клуб убийц букв // Собрание сочинений в 5 т. М.: Simposium, 2001. Т. 2. С. 6-82.
- Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семи-осфера - история. М.: «Языки русской культуры», 1996. 464 с.
- Моэрс В. Город мечтающих книг URL: http://royallib.com/book/ moers_valter/gorod_mechtayushchih_knig.html (дата обращения: 14.05.2017).
- Панченко А. М. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 1986. С. 236-250.
- Сабо Т. Родословная «Сонечки». Генетический фон повести Л. Улицкой. Shombathely, 2015. 190 с.
- Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI - первой половины XVII ст. (борьба за национальное единство) / Л. И. Сазонова // Русская старопечатная литература XVI - 1-я четверть XVIII в. Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М.: Наука, 1981. С. 145-156.
- Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция: избранные труды. М.: «Аграф», 2002. 496 с.