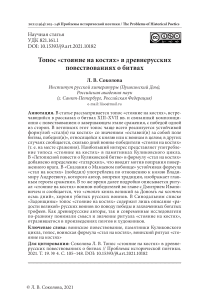Топос "стояние на костях" в древнерусских повествованиях о битвах
Автор: Соколова Лидия Викторовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается топос «стояние на костях», встречающийся в рассказах о битвах XIII-XVII вв. и связанный композиционно с повествованием о завершающем этапе сражения, с победой одной из сторон. В летописях этот топос чаще всего реализуется устойчивой формулой «стал(и) на костях» со значением «оставил(и) за собой поле битвы, победил(и)», относящейся к князю или к воинам в целом; в других случаях сообщается, сколько дней воины-победители «стояли на костях» (т. е. на месте сражения). Наибольший интерес представляет употребление топоса «стояние на костях» в памятниках Куликовского цикла. В «Летописной повести о Куликовской битве» в формулу «стал на костях» добавлено определение «татарских», что вводит мотив попрания поверженного врага. В «Сказании о Мамаевом побоище» устойчивая формула «стал на костях» (победил) употреблена по отношению к князю Владимиру Андреевичу, которого автор, вопреки традиции, изображает главным героем сражения. В то же время далее подробно описывается ритуал «стояние на костях» воинов-победителей во главе с Дмитрием Ивановичем и сообщается, что « стоялъ князь великий за Дономъ на костѣх осмь дний», хороня убитых русских воинов. В Синодальном списке «Задонщины» топос «стояние на костях» содержит лишь описание «радости великой» русских воинов по поводу победы и захваченных богатых трофеев. Как древнерусские авторы, так и современные исследователи по-разному понимали смысл и значение ритуала «стояние на костях», отразившегося в произведениях поэтов и художников.
Воинское повествование, памятники куликовского цикла, топос, воинская формула
Короткий адрес: https://sciup.org/147236178
IDR: 147236178 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.10182
Текст научной статьи Топос "стояние на костях" в древнерусских повествованиях о битвах
А. С. Орлов в работе «Об особенностях формы русских воинских повестей» отметил, что «воинские повести составляют отдельный литературный род, который выработал себе целую группу постоянных формул — loci communes», и поэтому «формулы воинских повестей в большинстве случаев повторялись не вследствие текстуального заимствования, а просто благодаря тому, что в сознании их авторов воинские картины облекались стереотипными выражениями хорошо знакомого книжникам литературного рода» [Орлов, 1902: 1]. Эти особенности воинских повестей формировались, по мнению автора, под стилистическим воздействием летописей, где «почти каждый бой описывался в одних и тех же выражениях» [Орлов, 1902: 1]. По мнению ученого, группа loci communes установилась очень рано, уже в XI–XII вв. Он привел 17 «общих мест» воинских повестей при описании боя, указав произведения, в которых они использованы. Среди них — как устойчивые словесные формулы (например, «соступишася… и бысть сѣча зла», «за руки емлющеся сѣчаху»), так и общие эпизоды воинских повестей («изображение многочисленности войск», «выражение усталости», «помощь небесной силы»), которые могли реализовываться не одним, а разными устойчивыми словосочетаниями. К «общим местам» воинских повестей А. С. Орлов отнес также образы зверей и птиц в боевых описаниях, «стереотипные схемы последовательного действия (напр., неудача, затем плач, молитва и т. п.)», а также «известную идею, патриотическую или религиозную (напр., наведение неприятелей по действу дьявола, грѣхъ ради на-шихъ и т. п.)» [Орлов, 1902: 6]. В другой работе А. С. Орлов проанализировал воинские формулы в исторических повестях XVI–XVII вв. [Орлов, 1909].
Отталкиваясь от исследования А. С. Орлова, Д. С. Лихачев обратил внимание на то, что «не жанр произведения определяет собой выбор выражений, выбор “формул”, а предмет, о котором идет речь. <…> Воинские формулы могут встречаться в житии, житийные формулы — в воинской повести, те и другие — в летописи или в поучении» [Лихачев, 1961: 6]. Замечание Д. С. Лихачева вполне справедливо, если учесть, что описания битв с традиционными формулами встречаются и в летописных погодных записях, и во внелетописных воинских повестях, и в княжеских житиях. Кроме того, Д. С. Лихачев предложил разграничивать ситуативный трафарет (этикет, канон) и его словесное выражение, которое может варьироваться, — то есть различать стереотипную ситуацию и стереотипную формулу [Лихачев, 1961: 6–8].
О. В. Творогов поддержал это разграничение, но предложил при этом неудачную терминологию. Если Лихачев различал стереотипную ситуацию и стереотипную формулу, ее реализующую, то Творогов объединил понятия ситуация и формула в термине «традиционные ситуативные формулы», понимая под ними стереотипные ситуации, а словесное оформление этих «формул» называл словесными штампами или устойчивыми словосочетаниями: «…мы обозначаем термином “устойчивая литературная формула” только ситуативную формулу, а входящие в ее состав устойчивые словесные штампы называем “устойчивыми словосочетаниями”» [Творогов, 1964: 32]. Между тем слово «формула» означает: 1) «устойчивое словосочетание», «краткое и точное словесное выражение, определение чего-либо»; 2) «стереотипная, шаблонная фраза, выражение»1. Поэтому термины «формулы воинских повестей», «устойчивые литературные формулы» правильнее, на наш взгляд, использовать как синонимы к термину «устойчивые словосочетания». Е. В. Логунова «формулой» называет уже и ситуацию, и ее словесную реализацию, тем самым используя термин «формула» в качестве синонима к «loci communes»2.
А. А. Пауткин, рассматривая описание битв в Повести временных лет (далее — ПВЛ ), использует термин устойчивые батальные мотивы , для реализации которых существует тот или иной набор словесных формул [Пауткин], а И. А. Евсеева (Лобакова) различает формулы, которые оформляют мотивы , и формулы, которые оформляют ситуации [Евсеева]. Дж. Ревелли предложила «те композиционные единицы, с помощью которых восхвалялись качества святого» в житии, называть «идеологическими константами» [Ревелли: 81].
В последние десятилетия для обозначения «общих мест» широко используется риторический по происхождению термин «топос» (греч. τόπος — место), введенный в литературоведение Эрнстом Робертом Курциусом в его фундаментальном труде «Европейская литература и латинское Средневековье» (см. гл. V «Топика» [Curtius: 89–115])3. Исследователь определил топосы как «твердые клише или схемы мысли и выражения», которые имеют межвременной и межкультурный характер. Всеприсутствие в европейской литературе топосов должно было, по мысли Курциуса, показать непрерывность линии, ведущей от античности к Новому времени, и несостоятельность существующей системы «деления на исторические периоды» (см. гл. XVII, § 7 [Curtius]).
В длительной научной дискуссии (в основном в западном литературоведении) о сущности и объеме понятия «топос» неоднократно высказывались противоположные точки зрения относительно того, применимо ли понятие «общих мест» лишь к внешней стороне текста (т. е. элементам художественной формы) или к литературной топике могут быть отнесены и содержательные составляющие художественного текста: образ, мотив, сюжет, идея и т. п.4 В отечественном литературоведении мнения ученых по этому поводу также разделились. Петербургский филолог А. Д. Степанов, отмечая расплывчатость литературоведческого термина «топос», считает необходимым определить, какое место он занимает в ряду перечисленных им сопредельных понятий [Степанов: 42]. По мнению же Т. Р. Руди, «несмотря на безусловную правомерность» замечания о многозначности термина «топос» («многозначность в терминологии — вещь крайне нежелательная»), «следует <…> признать, что невероятно широкое распространение, которое заново осмысленный Э. Р. Курциусом термин получил в последние десятилетия5, свидетельствует о том, что в современной науке возникла реальная потребность в подобном понятии» [Руди, 2005: 61]. Поэтому Т. Р. Руди считает оправданным принятое сегодня большинством исследователей (и медиевистов в частности) широкое толкование термина: «…топосом может быть любой повторяющийся элемент текста, закрепленный за определенным местом сюжетной схемы, — будь то устойчивая литературная формула, цитата, образ, мотив, сюжет или идея». «Таким образом, — заключает Руди, — я понимаю термин “топос” как обобщающее, родовое понятие, включающее в себя все те терминологические варианты, которые использовались в науке для обозначения родственных явлений до него: “типические черты”, “общие места”, клише, повторяющиеся мотивы, устойчивые (трафаретные) литературные формулы и т. д.» [Руди, 2006: 432], ср.: [Руди, 2004: 211], [Руди, 2005: 61].
В этом случае термин «топос» получает такое же широкое значение, как термин loci communes в интерпретации А. С. Орлова, и потому тоже нуждается в классификации. Е. Л. Коняв-ская отметила, что в филологической медиевистике топосами, или «общими местами», зачастую называют два различных типа повторяющихся элементов: сюжетные компоненты (например, преподобный перед преставлением должен предсказать его приближение, князь перед битвой говорит речь) и словесные штампы (агиограф пишет «от многа мало», враг идет «в силе тяжце» и т. д.) [Конявская: 80]6. Исследовательница считает, что «для общих мест целесообразно сохранить термин топос, а повторяющиеся слововыражения уместно называть формулами» [Конявская: 83]. Собственно, и Т. Р. Руди при анализе топики житий разграничивает мотивы и формулы («литературные формулы», «устойчивые формулы», «общие формулы»), в которых тот или иной мотив реализован [Руди, 2006]. М. В. Антонова, признавая вслед за Т. Р. Руди оправданным широкое толкование термина «топос», предложила при этом различать макро- и микроуровень анализа устойчивых компонентов и называть устойчивые сюжетные конструкции, компоненты фабульной схемы жития — сюжетными топосами [Антонова: 173], подразумевая, видимо, их отличие от топосов-формул. Термин «сюжетные топосы» вслед за М. В. Антоновой используют и другие орловские исследователи агиографии (Ю. В. Семенюк, М. Е. Башлыкова). М. Е. Башлыкова применяет термин «топос» по отношению к конкретному трафаретному эпизоду жития: «родительский» топос, топос «благовествования» [Башлыкова]. А. А. Медведев при исследовании поэтики святительских житий выделяет композиционные топосы и стилистические формулы. При этом композиционные топосы в исследуемых житиях он условно разделяет на две группы: содержащие стилистические формулы и выражаемые индивидуальными стилистическими средствами [Медведев: 14]. Термин «композиционный топос» был использован автором настоящей статьи при анализе «Слова Даниила Заточника» для обозначения обязательных частей послания, в латинских риториках имеющих специальные названия: salutatio, exordium, captatio benevolentiae, narratio, argumentatio, conclusio [Соколова, 1993: 232]7.
Итак, терминология для обозначения различных повторяющихся компонентов агиографического и воинского повествования еще не устоялась. Исходя из буквального значения греческого слова «топос» («место»), мы называем в настоящей статье топосом (или — при широком понимании термина — композиционным топосом) устойчивый структурный элемент («стереотипный эпизод») воинского повествования, занимающий определенное место в композиции произведения и реализующийся посредством устойчивых литературных формул. Следует иметь в виду, что в одних случаях топос оформляется одним-двумя устойчивыми словосочетаниями, а в других — имеет сложную композиционную структуру, что отметил О. В. Творогов [Творогов, 1964: 36].
Т. Р. Руди, перечисляя главные характеристики литературного топоса и имея в виду прежде всего древнерусскую агиографию, указала на его «закрепленность за определенным элементом композиции памятника» [Руди, 2005: 62]. С. Р. Зайнуллина отметила композиционную обусловленность устойчивых формул в древнерусском воинском повествовании: формулы традиционно выступают в определенных частях текстов и оформляют все части композиции воинского повествования, которую исследовательница схематично представила весьма общо: подготовка к сражению — сражение — результат сражения [Зайнуллина: 11, 13]. Более детальную схему летописных повествований о битвах предложила в 1985 г. О. А. Державина, она назвала ведущими компонентами воинских повестей следующие ситуации: «1. Описание войска, готовящегося к бою; 2. Ночь накануне сражения; 3. Речь предводителя перед сражением, обращенная к воинам; 4. Самое сражение и его конец (победа — в этом случае преследование неприятеля — или поражение); 5. Подсчет потерь» [Державина: 217]. Еще более подробную схему стереотипных эпизодов воинского повествования ранее представил В. И. Мансикка на примере Жития Александра Невского. Он выделил 14 «стереотипных картин воинского содержания», «общих эпизодов», указав при этом традиционные формулы (устойчивые выражения), характерные для каждого из эпизодов Жития
Александра Невского, подтвердив их трафаретность соответствующими формулами в летописных рассказах о битвах [Мансикка: 31–32, 41–48].
Настоящая статья посвящена одному из топосов («общих мест») воинского повествования — «стояние на костях» — и устойчивым формулам, его реализующим: «стать на костях / стоять на костях» в их различных вариантах и интерпретациях. Нашей целью является выяснить, когда появляются в рассказах о битвах литературные формулы «стать на костях» и «стоять на костях», какие синонимичные им выражения существовали, как осмыслялся ритуал «стояние на костях» авторами разных произведений8.
В работе об этикете феодального быта и литературы Древней Руси Д. С. Лихачев отметил: «Феодальный быт XI–XII вв. был связан на Руси со сложным этикетом. <…> Княжеские постриги и обряд посажения князя на коня <…>, совещания на ковре9<…>, совещания верхом на конях <…>, заключение мира, выступление в поход и т. д. — все это было обставлено известным церемониалом, в свою очередь отразившимся в языке — в появлении новых терминов и в обрядовых формулах. Так, например, выражение “стать на костях” — выражение, обычно означающее “одержать победу”, — не является просто “формулой воинских повестей”, а связано с каким-то церемониальным моментом, о котором нам напоминают немногие лишь намеки в летописи» [Лихачев, 1950: 83]10. Ученый привел в качестве примера цитату из Ипатьевской летописи под 1249 г.: «…и Львъ ста на мѣстѣ воиномь, посредѣ трупья, являюща побѣду свою»11 ( ПСРЛ . Т. 2: 805). Однако здесь, как видим, формула «стать на костях» в значении «одержать победу» не используется, употреблено синонимичное (и, вероятно, более раннее) выражение: «ста на мѣстѣ воиномь, посредѣ трупья».
Е. А. Прохазка при рассмотрении роли «общих мест» в определении жанра древнерусских воинских повестей упомянула и «довольно редкое словосочетание “стати на костях”, которое означает “быть победоносцем”». В примечании к этому высказыванию исследовательница еще раз отметила, что «сравнительно с другими данное словосочетание встречается редко», и перечислила те памятники, в которых ей удалось найти его: Новгородская четвертая летопись (Н4Л) младшего извода и Никоновская летопись (рассказ о походе Ивана III на Новгород в 1471 г.), Степенная книга царского родословия (рассказ о Раковорской битве 1268 г.), а также три памятника Куликовского цикла [Прохазка: 235–236]. Н. В. Трофимова в монографии, посвященной поэтике древнерусского воинского повествования и, в частности, воинским формулам в летописном и внелетописном повествовании, лишь упомянула использование формулы «ста на костех» в «Летописной повести о Куликовской битве» и «Сказании о Мамаевом побоище» [Трофимова: 241, 247].
Своеобразно интерпретирует смысл ритуала «стояние на костях» О. В. Иванайнен. Рассуждая о смерти Олега Вещего от коня, она пишет: «В гордыне Олег наступает на череп, и в тот же самый момент принимает неизбежную смерть как расплату за похвальбу». А в примечании к этому высказыванию отмечает: «Д. С. Лихачев связывает выражение “стать на костях” (в значении “одержать победу”) с “каким-то церемониальным моментом”. Правда, Лихачев имеет в виду “стояние на костях противника ”, а Олег становится на кости коня, но смысл “ попрания ”, восходящий к языческому ритуалу, видимо, сохранился и в этом рассказе» [Иванайнен: 446; 558, при-меч. 251] (курсив наш. — Л. С. ). Д. С. Лихачев пишет о формуле «стать на костях», а О. В. Иванайнен, ссылаясь на его высказывание, добавляет от себя, что речь идет о стоянии на костях противника . В связи с этим исследовательница осмыслила ритуал «стояния на костях» как ритуал «попрания» врагов, сложивших головы на поле боя, ошибочно приписав такое понимание топоса и Д. С. Лихачеву. Не обосновано в статье и возведение церемониала «стояния на костях» к предполагаемому языческому ритуалу, доказательств существования которого в статье не приведено. Впрочем, здесь можно указать на отраженный в Библии обычай древних царей после победы над врагами наступать на шеи побежденных, торжествуя таким образом и открывая всем одержанную над ними победу12.
Иначе понимает смысл «стояния на костях» Д. Б. Терешкина. Она рассматривает его «в контексте христианской точки зрения на необходимость отпевания и погребения погибшего»: «обряд “стояния на костях”, т. е. оплакивания и прославления павших воинов, является топосом воинской повести» [Терешкина: 15]. Таким образом, Д. Б. Терешкина осмысляет ритуал (по ее терминологии, «обряд») «стояния на костях» как «стояние на костях» своих соплеменников с целью воздания им посмертной почести: оплакивания, погребения и прославления.
Из приведенных высказываний ясно, что в медиевистике пока не сформировалось четкое представление о топосе воинского повествования «стояние на костях».
Когда же появляется в древнерусской литературе этот топос и оформляющие его устойчивые формулы «стал(и) на костях» и «стоял(и) на костях»?
Для обозначения победы в ПВЛ используется глагол «одолѣ / одолѣша». Многочисленные примеры привел О. В. Творогов, например: «И исполчишася Русь, и бысть сѣча велика, и одолѣ Святослав, и бѣжаша грьци», или: «Бысть сѣча зла <…> и одолѣ Ярославъ. Святополкъ же бѣжа». Исследователь при этом отметил, что сложившаяся в ПВЛ схема изображения битвы в Киевской летописи оказывается разрушенной [Творогов, 1962: 278–279, 281]. Таким образом, формула «стал(и) на костях» в значении «победил(и)» в ПВЛ не используется.
Устойчивое выражение «стоял(и) на костях» в ПВЛ тоже не используется, хотя действия победителей на поле битвы после сражения описываются (т. е. структурный элемент, названный нами «стояние на костях», присутствует). Так, под 1103 г. рассказывается о битве с половцами русских князей во главе с Владимиром Мономахом, когда русские полки победили, а у половцев были убиты 20 князей, в том числе похвалявшийся перед битвой Урусоба: «И посем сняшася братья вся, и рече Володимеръ: “Сь день, иже створи Господь, възрадуемся и възве-селимся в онь (ср.: Пс. 117:24. — Л. С.); яко Господь избавилъ ны есть от врагъ наших (ср.: Пс. 135:24. — Л. С.), и покори врагы наша, и скруши главы змиевыя, и далъ еси сих брашно людем (ср.: Пс. 73:14. — Л. С.) русьскым”. Взяша бо тогда скоты, и овцѣ, и конѣ, и вельблуды, и вежѣ с добытком и с челядью, и заяша печенѣгы и торкы с вежами. И придоша в Русь с полоном великым, и с славою и с побѣдою великою» (ПВЛ: 270). Здесь, как видим, говорится о сборе русских воинов после сражения на поле битвы, приводится речь князя к собравшимся воинам, сообщается о захвате вражеского стана и богатой воинской добыче, о возвращении на Русь с полоном великим, со славою и с победой, но формула «стояли на костях» не используется. Не сообщается и о захоронении убитых русских воинов.
Самое раннее (из известных) использование устойчивой формулы «стоять на костях» находим в Новгородской первой летописи ( Н1Л ) старшего извода при описании Раковорской битвы — сражения псковичей и новгородцев с немцами. В Синодальном списке под 1268 г. читаем: «Они же оканьнии крестопреступници, не дождавъше свѣта, побѣгоша. Новго-родци же стояша на костехъ 3 дни , и приѣхаша в Новъгородъ, привезоша братию свою избьеныхъ, и положиша посадника Михаила у святои Софьи» ( ПСРЛ. Т. 3: 87). (Здесь и далее при цитировании источников курсив наш. — Л. С .). Это известие читается во второй части Синодального списка, которая освещает события 1234–1330 гг. и переписана около 1330 г. Здесь формула «стояша на костехъ» указывает на некие действия после битвы, длившиеся три дня, то есть можно говорить о ритуале «стояние на костях». Указание на число дней не случайно, оно говорит о большом количестве погибших, которых нужно было захоронить. В рассказе о Раковорской битве Степенной книги царского родословия формула незначительно варьируется перестановкой слов: «стояша три дьни на костехъ» ( ПСРЛ . Т. 21, ч. 1: 304).
Вероятно, словесная формула «стать на костях» утвердилась не сразу. Более ранней, видимо, была формула, в которой вместо слов «на костях» читалось «на трупьях» или «посреди трупья», что рисовало более мрачную картину. Помимо примера из Галицко-Волынской летописи под 1249 г. («ста на мѣстѣ воиномь, посредѣ трупья») можно отметить употребление этого выражения в поздней Распространенной редакции Жития псковского князя Довмонта, участника Раковорского сражения 1268 г., где при описании результатов битвы также использовано слово «трупия»: «Пребыста же князи на тру-пиях мертвых три дни и возвратишася в великий Новъград» [Охотникова: 218–219]. Распространенная редакция датируется концом XVI — началом XVII в., список сер. XVII в. При этом в «Хронографической» и «Средней» редакциях «Повести о Довмонте» (обе XVII в.), как и в Н1Л, употреблено выражение «стояли на костех три дни»13.
В Псковской первой летописи ( П1Л ) выражение «стал (стали) на костях» употреблено дважды. Под 6851 (1343) г. в рассказе о битве псковичей с немцами сообщается: «И бысть бо сѣча велика плесковичамъ съ нѣмци мѣсяца июня въ 1 <…> въ самый Троицынъ день <…> и Богъ поможе мужемъ пско-вичемъ и изборяномъ, посѣкоша нѣмецъ помощью святыя Троица и молитвою князя Всеволода и Тимофѣя, овыхъ по-биша, а инии прочь побѣгоша посрамлени. И сташа псковичи на костехъ , и убиша псковичь на томъ бою 17 человѣкъ» ( ПСРЛ . Т. 4: 189)14. Формула «стать на костехъ» употреблена в П1Л и почти век спустя, под 6941 (1433) г., в рассказе о междоусобной битве литовских князей Жигимонта (Сигизмунда) Кейстутовича и Свидригайло Ольгердовича 8 декабря 1432 г.: «Того же лѣта, на зиму, мѣсяца декабря въ 8 (в др. списке: въ 8 день. — Л. С .), бысть побоище силно зѣло князю литовскому Свитригайлу съ княземъ Жидимонтомъ о княженьи великомъ въ Литовской земли <…> и сступишася, и бысть бой и сѣча велика зѣло; и побѣже князь Свитригайло съ побоища къ Полотску, а князь Жидимонтъ ста на костехъ , а паде много рати того князя, и другого князя у Свитригайла паде полочанъ, а иныхъ изымаша» ( ПСРЛ . Т. 4: 206–207); ср.: ( Псковские летописи . Вып. 1: 40).
Интересно, что в Псковской третьей летописи читаются тождественные тексты, а в Псковской второй летописи (П2Л) (свод 1486 г., Синодальный список конца XV в.) в обоих случаях формула «стать на костях» отсутствует; в летописной статье под 1343 г. она опущена (Псковские летописи. Вып. 2: 25–26), а в статье под 1433 г. заменена словом «одолел», здесь сказано: «…и одолѣ Жидимонтъ, а Свитригаило побѣже к По-лотску» (Псковские летописи. Вып. 2: 43). Вероятно, причина этого в том, что формула «стали на костях» в П1Л под 1343 г. дублирует предшествующее сообщение о победе псковичей и бегстве немцев, а потому утрачивает информационную функцию — указание победителя — и представляется излишней. В сообщении под 1433 г. противопоставление «побѣже — ста на костехъ», читающееся в П1Л, заменено в П2Л на противопоставление «одолѣ — побѣже», т. е. формула «ста на костехъ» заменена более привычным для летописца глаголом «одолѣ».
Устойчивая формула «стать на костях» могла применяться в рассказах о битвах не только по отношению к русским князьям и воеводам, но и по отношению к их противникам, врагам. В Троицкой летописи (по реконструкции М. Д. При-селкова, см.: [Приселков]) и в восходящих к ней Рогожском летописце и Симеоновской летописи под 6665 (1377) г. при рассказе о битве на реке Пьяне использована формула «сташа на костѣхъ», и речь здесь идет о победе вражеского войска: «Татарове же одолѣвше христианомъ и сташа на костѣхъ , полонъ весь и грабежъ оставиша ту, а сами поидоша къ Но-вугороду къ Нижнему изгономъ безъ вести» ( ПСРЛ . Т. 18: 119), ср.: ( ПСРЛ . Т. 15: 119). Этот же текст с незначительными вариациями читается в Софийской первой летописи ( С1Л ) старшего извода ( ПСРЛ . Т. 5: 236) и в Н4Л под 1378 г. ( ПСРЛ . Т. 4, ч. 1: 308).
По отношению к противникам формула «стать на костях» употреблена в Троицкой летописи, Рогожском летописце и Симеоновской летописи также под 1387 г., в рассказе о сражении русских князей во главе со смоленским князем Святославом Ивановичем и литовских князей во главе со Скир-гайло Ольгердовичем (в Рогожском летописце повесть выделена киноварным заголовком «О Смоленском побоищи»): «И приидоша къ Мстиславлю городу, и ту наѣха на нихъ князь Скригаило Олгердовичь, а съ нимъ рать Литовская и вся сила ихъ; и сступишася обои, и бысть имъ бои великъ и сѣча зла, и одолѣ Скригаило и изможе, и ста на костехъ » ( ПСРЛ . Т. 18: 137), ср.: ( ПСРЛ . Т. 15: 153).
Подчеркнем, что в рассмотренных сообщениях Троицкой летописи под 1377 и 1387 г. (сохраненных в Рогожском летописце и Симеоновской летописи) выражение «ста / сташа на костѣх» уже не воспринимается как самодостаточная формула со значением «победил(и)», оно дублирует слово «одолел(и)». Поэтому в одном списке Никоновской летописи формула сохранена (ПСРЛ. Т. 11: 92, левый столбец), а в другом, в сообщении под 1387 г., опущена переписчиком: «И посемъ князи Олгердовичи одолѣша, а Смолняне побиени бышя, а инии побѣгоша» (ПСРЛ. Т. 11: 92, правый столбец). Тождественный этому текст читается в Московском летописном своде конца XV в. (ПСРЛ. Т. 25: 214).
Вероятно, выражение Троицкой летописи « одолѣвше <…> и сташа на костѣхъ » можно рассматривать как новый вариант формулы со значением «победили и остались на поле битвы», что указывает на некий ритуал победителей на месте сражения.
В Рогожском летописце формула «стал на костях» употреблена, кроме того, под 1410 г. в рассказе о войне князя Ягайло с Орденом (без упоминания Грюнвальдской битвы): «Тое же осени бысть бои королю Ягаилу и князю Витовту съ Нѣмци, и сташа на костехъ Литва под Мариинымъ городкомъ» ( ПСРЛ . Т. 15: 186), а также в сообщении под 1411 г., которое приведем далее.
В С1Л младшего извода топос «стояние на костях» использован под 6979 (1471) г. — в рассказе о походе Ивана III на Новгород (о Шелонском сражении): «…воини же (великого князя Московского. — Л. С.) ставше на побоищи на костехъ ихъ (новгородцев. — Л. С.), честно въструбиша, радующееся, прикладахуся ко святымъ образомъ знаменъ ихъ Новгород-скыхъ, возвеличая Божие милосердье о побѣдѣ на своя супо-статныя враги» (ПСРЛ. Т. 6: 11). Такой же текст читается в Новгородской летописи Дубровского (ПСРЛ. Т. 43: 196). В Софийской второй летописи (С2Л) текст изменен: «Наши же ставше на побоищѣ томъ и прославиша всемилостиваго Бога и его пречистую Матерь Богородицю, показавших надъ государемъ великимъ княземъ свое милосердие» (ПСРЛ. Т. 6: 193). В отдельном, внелетописном списке Повести, представляющем, по мнению его издателей, наиболее ранний текст, читаем: «Воеводы же князя великого, князь Данило (Холм-ский. — Л. С.) и Феодоръ Давыдович, ставьше на костех, сождашяся с воиньством своим и видѣша воя своя всѣх здравых и благодариша Бога и пречистую Его Матерь и всѣх святыхъ»15. В Никоновской летописи читается идентичный этому текст (ПСРЛ. Т. 12: 136).
Первоначальным представляется вариант внелетописной повести: « воеводы же князя великого <…> ставьше на костех »; он видоизменился в формулу « воини <…> ставше на побоищи на костѣхъ ихъ » ( С1Л мл. изв.), а она, в свою очередь, преобразовалась в выражение « наши <…> ставше на побоищѣ томъ » ( С2Л ). Мы видим, как постепенно происходила деформация выражения «стать на костях», уже не воспринимаемого краткой и емкой литературной формулой с определенным значением; отсюда добавление слова «на побоище» и местоимения «ихъ», а затем слово «на костях» и вовсе оказалось опущенным, и словосочетание «наши же ставше на побоищѣ томъ» приобрело уже прямой смысл, оно утратило переносное значение устойчивой формулы с ключевым словом «на костях». Отметим, что в С1Л младшего извода указано, что встали московские воины на костях их (т. е. побежденных новгородцев), что подчеркивает победу воинов московского князя Ивана III над «неверными», «отступниками православия», вносит в топос «стояние на костях» мотив попрания поверженного врага.
А. С. Орлов в свое время указывал на искажение устойчивых формул в случае не опознавания их таковыми. Так, выражение «утеръ пота», популярное в летописях и нередко встречающееся в воинских повестях вплоть до XVII в., в «Казанской истории» преобразовалось в словосочетание «утеръ поту лица своего ». Символическое выражение труда («одва могоша и взяти съ великимъ потомъ» — в Ипатьевской летописи под 1280 г.) было понято автором в прямом смысле, как простое физическое действие [Орлов, 1902: 4]. Е. А. Про-хазка также отмечает, что «к XVI–XVII вв. авторы все меньше умели отличать буквальные выражения от условных устойчивых словосочетаний и формул, образующих лексический состав жанра древнерусского воинского повествования» [Прохазка: 237]. Интересные наблюдения над переосмыслением и разрушением формул воинского повествования привела Н. В. Трофимова [Трофимова: 210–230].
Как определялось учеными значение устойчивой формулы «стать на костях» на основании приведенных примеров из летописей?
Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского», основываясь на сообщении Н1Л о Раковорской битве, пишет: «Три дня стояли россияне на костях , то есть на месте сражения, в знак победы, и решились идти назад: ибо, претерпев великий урон, не могли заняться осадою городов»16. Отметим, что Карамзин курсивом выделил только слово «на костях», воспринимая его как метонимию и поясняя: «на месте сра-жения»17. И. И. Срезневский в «Материалах для словаря древнерусского языка» приводит устойчивое выражение «стать на костях»: «стати на костѣхъ — оставить за собой поле сражения» [Срезневский: 297–1298]. Как видим, Карамзин и Срезневский поясняли разные формулы: «стоять на костях» — «стать на костях».
Составители «Словаря русского языка XI–XVII вв.» приводят два значения устойчивого оборота «стати (стояти) на костях»18. Одно из значений (оно приводится вторым) определяется традиционно: «победить, оставить за собой поле боя». В качестве иллюстрации приводятся цитаты из «Задон-щины» и Никоновской летописи под 1387 г. По мнению составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.», выражение «стать (стоять) на костях» имеет и другое значение (оно указывается как первое): «упорно сражаться, стоять насмерть». При этом в качестве иллюстрации приводится цитата из Н1Л : «Новгородци же стояша на костех 3 дни…» (которую комментировал Карамзин) и цитата из Рогожского летописца под 1411 г.: «Тое же зимы бысть бои князю Петру Дмитреевичю Московьскому съ князми Новогородскыми на Лысковѣ, ста-ша же на костехъ князи Новогородьскыи Нижняго Новаго-рода» ( ПСРЛ . Т. 15: 186). Обе цитаты не дают основания для указанного значения. Первая цитата, как уже сказано, сообщает, сколько дней оставались новгородцы на поле битвы после победы . Смысл второй фразы: был бой, — стали же на костях (т. е. победили) князья новгородские. Как видим, составители Словаря ошибаются, приписывая устойчивым формулам «стать на костях» / «стоять на костях» значение «упорно сражаться, стоять насмерть».
Обратимся теперь к памятникам Куликовского цикла19.
Анализируя летописные памятники о Куликовской битве [Соколова, 2014а], мы выделили, во-первых, краткую заметку (= погодную запись ), которая сохранилась в Московской Академической летописи (далее — МАк.) и восходит, как нам представляется, к недошедшему великокняжескому своду Дмитрия Донского 1392 г. (предполагаемому «Летописцу великому русскому»). Вторым памятником была, по всей видимости, Внелетописная повесть о Куликовской битве, созданная при жизни Дмитрия Донского (до 1389 г.). В своем первоначальном виде она не сохранилась, о ней мы можем судить лишь на основании реконструкции «Летописной повести о Куликовской битве»20 и рассказа в летописном своде 1408 г. Рассказ о Куликовской битве в летописном своде 1408 г. является сводным текстом. Составитель этого рассказа расширил краткую заметку, читавшуюся, по нашей гипотезе, в великокняжеском своде Дмитрия Донского 1392 г., существенными вставками из Внелетописной повести о Куликовской битве. В общерусский летописный свод митрополита Фотия 1418 г. была включена (в отредактированном виде) Внелетописная повесть о Куликовской битве, заменившая собой рассказ о битве, читавшийся в предшествующем своде 1408 г. Этот текст известен нам как «Летописная повесть о Куликовской битве», дошедшая в С1Л , Н4Л и во второй подборке Новгородской Карамзинской летописи ( НК-2 ).
Топос «стояние на костях» присутствует во всех памятниках Куликовского цикла. Рассмотрим вначале использование воинских формул «стать на костях» и «стоять на костях» в перечисленных летописных памятниках.
В краткой заметке МАк. после перечисления убитых на поле боя князей и воевод сказано кратко: «…князь же великыи Дмитреи Ивановичь съ прочими князи Рускыми и воеводами ставъ на косте(хъ) и похвали Бога и того всенепорочную Матерь и възвратися въ свою отчину, побѣдивъ своя вра-гы» ( ПСРЛ . Т. 1, вып. 3: 536).
В рассказе о Куликовской битве в составе летописного свода 1408 г. (Троицкой летописи) устойчивая формула, судя по Рогожскому летописцу, читалась в том же виде; дополнительно сообщалось, что князь обратился к своей дружине с речью (заимствовано из недошедшей Внелетописной повести): «…ставъ на костех, благодари Бога и похвали похвалами дружину свою, иже крѣпко бишася съ иноплѣменникы…» (ПКЦ: 10).
В этих летописных сообщениях «став на костях» — словесная формула, означающая «победив». Но указание на благодарственные молитвы к Богу и обращение к воинам с «похвалой» дают основание считать, что здесь уже содержится в зачаточном состоянии описание воинского ритуала «стояние на костях».
В «Летописной повести о Куликовской битве» (входившей в свод митрополита Фотия 1418 г.) формула «стать на костях» видоизменяется, в ней появляется определение «татарских»: «Князь же Дмитрии з братомь своимъ Володимеромъ и съ князь-ми рускими, и воеводами, и прочими бояры, и съ всѣми вои оставшимися став тое нощи на поганых обѣдищех , на костех татарских , утеръ поту своего и, отдохнув от труда своего, велико благодарение принесе Богу, таковую побѣду давшему на поганыа, избавляющему раба своего от оружиа люта» ( ПКЦ : 80). Уточнение, что выжившие русские воины во главе с Дмитрием Ивановичем и его братом Владимиром Андреевичем «стали на поганых обѣдищех , на костех татарских », придает топосу несколько иной смысл, подразумевая попрание врага, более рельефно подчеркивая значение этого топоса как символизирующего одержанную победу над врагом. «Обѣдище» — «место, где ели, пировали»21. «На поганых обѣдищех» — то есть на месте, где враги «пировали», упиваясь кровью русских воинов (метафорическое уподобление боя пиру), и где теперь лежат их «кости».
Можно предполагать, что слова «на поганых обѣдищех» и «татарских» привнесены в формулу «стать на костях» при включении Внелетописной повести в свод Фотия 1418 г. (их нет в рассказе Рогожского летописца). И сделал это, видимо, писатель, либо не понимавший первоначального значения воинской формулы «стать на костях» (предполагается, что некоторые тексты в С1Л отредактировал или написал инок Епифаний Премудрый), либо сознательно ее преобразовавший. Напомним, что в С1Л младшего извода, в которой читается «Летописная повесть о Куликовской битве», и в другом случае — в рассказе о походе Ивана III на Новгород под 6979 (1471) г. — упоминается в некоторых списках, на чьих костях стали воины московского князя: «Воини же ставше на побоищи на костехъ ихъ (своих противников, новгородцев. — Л. С.), честно въструбиша, радующеся…» (ПСРЛ. Т. 6: 11).
Кроме того, в «Летописной повести» не просто сообщается о благодарственной молитве великого князя, но и приводится текст этой молитвы к Богу и Богородице, а также говорится о прославлении Богородицы многими русскими князьями и воеводами. Отмечается и то, что великий князь Дмитрий Иванович «похвали дружину свою, иже крѣпко побишася со иноплеменникы, мужьскыи храбровавши…» ( ПКЦ : 40).
Рассказ о Куликовской битве в Н1Л восходит к рассказу свода 1408 г., но он испытал, по нашим наблюдениям, влияние «Летописной повести», из которой в него заимствованы некоторые фрагменты [Соколова, 2014а: 324–326]. Здесь, вслед за «Летописной повестью», в выражение «стал на костях» добавлено определение «татарских»: «Князь же великии Дмитрии съ братомъ своим съ княземъ Володимеромъ, ставъ на костех татарскых , и многиа князи рускиа и воеводы с прехвалными побѣдами и похвалами прославиша пречистую Матерь Божию Богородицю, [и похвали похвалами дружину свою, иже] крѣпко бравшеся съ иноплеменникы за святыа божиа церкви, за правовѣръную вѣру, за всю Рускую землю…» ( ПКЦ : 23).
На основании «Летописной повести о Куликовской битве» было создано «Сказание о Мамаевом побоище» (включенное позднее в некоторые летописи). По нашему предположению, его написал Пахомий Серб во время первого пребывания в Троицком монастыре, а точнее — между 1445 г. и 1458 г. [Соколова, 2020b].
В «Сказании о Мамаевом побоище» эпизод «стояние на костях» разработан более подробно, причем редакции и варианты памятника (см. о них: [Дмитриев]) различаются в передаче этого фрагмента. Несмотря на то, что «Сказание» основано на «Летописной повести о Куликовской битве», в его Основной редакции, которая наиболее близка к протографу, определение «татарских» в формуле «стал на костях» отсутствует.
В Основном варианте Основной редакции памятника (далее — вариант «О») рассматриваемый топос использован дважды, причем в разных контекстах. В первом случае он употреблен окказионально, вне традиции — не по отношению к возглавлявшему поход великому князю Дмитрию Ивановичу, а по отношению к Владимиру Андреевичу Серпуховскому: после преследования бегущих татар и возвращения на поле брани «князь же Владимеръ Андрѣевичь ста на костѣх под черным знаменем. <…> Князь же Владимеръ Андрѣевич не обрѣте брата своего, великого князя, в плъку, нъ толко литовские князи Олгордовичи, и повелѣ трубити в собранные трубы» (Сказания-1982: 45). Здесь, в соответствии с замыслом автора «Сказания», именно Владимир Андреевич рисуется победителем, главным героем сражения, чей засадный полк переломил ход битвы, кто обратил в бегство воинов Мамая и преследовал их, а затем вернулся на поле битвы и как победитель «ста на костѣх» под «черным» княжеским знаменем, а также (что тоже является прерогативой князя, возглавляющего сражение) повелел трубить в «собранные трубы», созывая воинов к князю. И он же, Владимир Андреевич, обращается с речью к воинам, выясняя судьбу пропавшего великого князя Дмитрия Ивановича и поручая отыскать его (см. об этом: [Соколова, 2020a: 159–161]).
Далее в Основной редакции содержится пространное описание ритуала «стояние на костях». Дмитрий Иванович, после того как его отыскали и сообщили ему о победе, говорит: «Сий день сътвори Господь, възрадуемся и възвеселимся22, людие!» и возносит благодарственную молитву к Богу ( Сказания-1982 : 46). Затем Дмитрий Иванович с братом своим и с оставшимися в живых воеводами ездит по полю битвы, «сердцем боля кри-чаше, а слезами мыася»; он находит тела своих воевод и обращается к каждому из них с пространной речью, просит их помолиться за оставшихся в живых ( Сказания-1982 : 47). Мотив объезда князьями поля боя впервые использован именно автором «Сказания», в «Летописной повести о Куликовской битве» он отсутствует.
Затем великий князь «отъехавъ на иное мѣсто, и повелѣ трубити в събранные трубы, съзывати люди. <…> Събран-нымъ же людем всѣм, князь великий ста посреди ихъ, плача и радуася: о убиеных плачется, а о здравых радуется». Далее приводится речь великого князя, обращенная к собравшимся воинам, которых он благодарит, обещает «даровать» их по достоинству и призывает исполнить еще один долг: «Нынѣ же сиа управим: коиждо ближняго своего похороним, да не будуть звѣрем на снѣдение телеса христианьскаа». После этого сообщается, что «стоялъ князь великий за Даном на костѣх осмь дний, дондеже розобраша христианъ с нечестивыми. Христианскаа телеса в землю покопаша, а нечестивых телеса повръжена звѣрем и птицам на расхыщение» (Сказания-1982: 47). Мотив захоронения убитых ратников впервые тоже встречается в «Сказании».
По отношению к великому князю Дмитрию Ивановичу автор «Сказания» использует формулу «стоял на костях» (8 дней) традиционно — при описании ритуала прощания с павшими воинами, их захоронения. В этом контексте в формулу «стоял на костях» внесено уточняющее слово «за Доном» и слова «князь великий», что делает формулу несколько «размытой». Не случайно Карамзин считал в подобном случае устойчивым выражением метонимию «на костях» — на месте сражения.
Подчеркнем, что в Основной редакции «Сказания» говорится о разной участи тел погибших русских и татарских воинов: своих похоронили, а тела врагов отдали на расхищение зверям и птицам. Этот образ посмертного поругания (быть непогребенным считалось крайним бесчестьем) неоднократно встречается в Библии, например: «И будут трупы твои пищею всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их» (Втор. 28:26) или: «Отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным» (Иер. 34:20); ср. также: (Иер. 7:33), (Иез. 29:5), (Пс. 78:2) и др.
Интересно проследить по отдельным редакциям и спискам «Сказания», как видоизменялся в них воинский топос «стояние на костях». Вероятно, первоначальным является чтение варианта «О» Основной редакции: «Стоялъ князь великий за Даном на костѣх осмь дний…». В других вариантах и редакциях было опущено либо слово «за Дономъ», либо слово «на костѣх». Слово «за Дономъ» отсутствует в варианте Ундольского («Князь велики стоя на костех восмь днии…» (ПКЦ: 186) и в Забелинском варианте, где к слову «на костях» добавлено «человеческих» и изменено указание на то, какое время пребывал князь на поле боя («Князь же великий стоял на костех человеческих 3 дня и три нощи» (Повести-1959: 202). В Ермолаевском списке Основной редакции, напротив, опущенным оказалось слово «на костях»: «Княз же великий стоя за Доном осм дний…» (ПКЦ: 249); такое же чтение в Распространенной редакции (Повести-1959: 153), в редакции Синопсиса (ПКЦ: 334), в редакции 1681 г. Пантелеймона Кохановского (ПКЦ: 365); в Ки-приановской редакции слово «на костях» заменено словосочетанием «на том месте»: «И стоя князь великый за Доном на томь месте 8 дний» (Сказания-1982: 69). В редакции Летописца князя И. Ф. Хворостинина (40-е гг. XVII в.) читаем: «Князь же великии стоя на степѣнех, даколе розобраше християнская телѣса и похорониша е» (ПКЦ: 292). «Степень» — «возвышение со ступеньками»23, лестница, здесь — «возвышение». Формула «стоя(л) на костех» была, видимо, не понята автором и заменена.
Составитель Летописной редакции «Сказания» самостоятельно обращался к «Летописной повести о Куликовской битве» и вслед за ней употребил выражение «ста на костех» с добавлением слова татарских , причем в обоих случаях: и говоря о Владимире Андреевиче, который «ста на костех татарских под черным знамянем…» ( Повести-1959 : 103), и говоря о Дмитрии Ивановиче: «Собранным же всем людем, князь же великий ста на костех татарских и рече…» ( Повести-1959 : 105). В контексте «Сказания», где речь идет о поле боя, усеянного трупами как христиан, так и ордынцев, слово татарских выглядит неуместной детализацией, позволяющей воспринимать выражение «стал на костях» не в переносном, а в прямом значении. Подчеркнем, что составитель Летописной редакции использовал формулу «стал на костях» (т. е. победил) по отношению не только к Владимиру Андреевичу, как в Основной редакции, но и к Дмитрию Ивановичу.
Особенностью Киприановской редакции (в составе Никоновской летописи) является распространение фрагмента, следующего после подсчета убитых русских воинов. В частности, здесь говорится об отпевании священниками погибших христиан: «И повеле князь великий священником пети над-гробныа песни над избиенными, и погребоша их, елико воз-могоша и успеша, и воспеша священницы вечную память всем православным христианом, избиеным от татар на поле Куликове, межу Дона и Мечи. Таже сам князь великы з братом своим и со всеми воиньствы остаточными велиим гласом възкликнуша им вечную память с плачем и со слезами многими» (Сказания-1982: 69). И далее следует речь великого князя, обращенная к погибшим воинам.
Автор «Задонщины», по нашему убеждению, основывался при создании своего произведения одновременно на «Летописной повести о Куликовской битве» и «Сказании о Мамаевом побоище», использовав при этом и текст «Слова о полку Игореве». Авторский текст «Задонщины» не дошел до нашего времени. Пространная и Краткая редакции независимо друг от друга восходят к общему протографу. Синодальный список представляет Сводную редакцию, которая объединяет чтения Пространной и Краткой редакций [Соколова, 2014a], [Соколова, 2020b].
В Краткой (Ефросиновской) редакции рассматриваемого топоса нет, так как в ней читается только первая часть «За-донщины», заканчивается эта сокращенная редакция [Соколова, 2014b: 712–723] плачем русских жен. В Пространной редакции «Задонщины» топос «стать на костях» относится, как и в «Летописной повести о Куликовской битве», одновременно к обоим князьям — Дмитрию Ивановичу и Владимиру Андреевичу — и к их воеводам. Автор «Задонщины», создавая свое произведение после «Летописной повести» и «Сказания», стремится «примирить» героев Куликовской битвы, отдавая должное всем ее участникам. К имени Дмитрия Ивановича, как правило, добавляется имя Владимира Андреевича. В отличие от «Летописной повести», в «Задонщине» речь идет о стоянии на костях русских воинов (о телах татарских воинов не упоминается): « Сталъ кн(я)зь великыи с своим братомъ кн(я)земъ Владимеромъ Ондрѣевичемъ и с своими воеводами на костехъ . Грозно бо, брате, в то время посмотрети, лежать трупы хр ( и ) стианьскиа акы сѣнныи стоги, а Дон рѣка три дни кров(ь)ю текла» ( Задонщина. Список И-1 : 545).
Дмитрий Иванович просит сосчитать, сколько погибло христианских воинов, после чего обращается к убитым русским воинам, прося у них прощения и благословения: «Братия бояра и кн(я)зи и дѣти боярские, то вам сужено мѣсто меж Доном и Непром, на полѣ Куликове на речке Напрядѣ. И положили есте головы своя за с(вя)тыя церькви, за землю за Рускую и за вѣру крестьяньскую. Простите мя, братия, и благословите в семъ вѣце и в будущем» ( Задонщина. Список У : 540).
В позднем Синодальном списке «Задонщины» сцена «стояния на костях» совершенно иная, здесь сказано только о великой радости воинов по поводу победы и богатой военной добычи: «На поли Куликове на реце Непрядене быст ( ь ) радост ( ь ) великая руским князем. Ставши на костехъ поганих татар , вострубили и з радости начаша имати кони, и верблюды, и камки, носечи, сребро и злато, и крепкия доспехи, и чест(ь), и жемчуги, и дорогое взорочия, кол(ь)ко хто хотечи и могучи, тол(ь)ко возимаючи. Жень (вместо: Уже. — Л. С .) жены руския [восплескаша] татарским златом» ( Задонщина. Список С : 555).
Об этой сцене можно сказать «пляска на костях», в данном случае — на костях убитых татар. Это образное выражение означает активное выражение радости от того, что твой враг повержен. Мотив богатой добычи заимствован из «Летописной повести о Куликовской битве», в С1Л старшего извода читается следующий текст: «И мнози вои его възрадовашася, яко обрѣтающе користь многу, пригнаша бо с собою многа стада конии, и велбуди, и волы, им же нѣсть числа, и доспѣхы, и порты, и товаръ» ( ПКЦ : 40). Этот текст читается и в рассказе о Куликовской битве Рогожского летописца. Но и в рассказе Рогожского летописца, и в «Летописной повести о Куликовской битве» упоминание о радости воинов по поводу богатой добычи читается не в сцене «стояния на костях», а после сообщения о возвращении с победой великого князя Дмитрия Ивановича в Москву, и там оно менее эмоционально.
Таким образом, в одних случаях мы имеем дело с литературной формулой «стать на костях» (совершенный вид глагола), означающей «оставить за собой поле битвы, победить», в других случаях формула «стоял / стояли на костях» (несовершенный вид глагола) подразумевает некие действия победителей, оставшихся в живых князей и воинов, некий ритуал или
«церемониал» (термин Д. С. Лихачева). В чем он состоял, судя по рассмотренным произведениям?
Топос «стояние на костях» наиболее сложен по структуре в «Сказании о Мамаевом побоище», где он включает следующие субтопосы (или мотивы): 1) благодарственная молитва великого князя Богу, «таковую побѣду давшему на пога-ныа»; 2) объезд поля битвы великим князем вместе с другими князьями и воеводами, во время которого он обращается с прощальной речью к убитым воеводам, благодарит их, прося у них прощения и благословения; 3) обращение великого князя к оставшимся в живых воинам с речью — он «похвали похвалами дружину свою…» (по всей видимости, речи князя, обращенные к оставшимся в живых соотечественникам, — не простой литературный прием, а отражение реально существовавшей традиции); 4) призыв великого князя захоронить павших воинов; в некоторых редакциях «Сказания» говорится об отпевании убитых при погребении и оплакивании их; 5) подсчет убитых по просьбе великого князя. От количества убитых зависело, как долго победители стояли на поле битвы: новгородцы после Раковорской битвы — 3 дня, русские воины после Куликовской битвы, если верить «Сказанию о Мамаевом побоище», — 8 дней, что, однако, вызывает со-мнения24. Смущало это, видимо, и древнерусских книжников. Составитель Забелинского варианта Основной редакции внес в текст правку, написав, что «князь <…> стоял на костех человеческих 3 дня и три нощи» ( Повести-1959 : 202).
По замечанию А. А. Булычева, описанный в «Сказании о Мамаевом побоище» ритуал находит прямую параллель в погребальной практике эпохи позднего русского Средневековья. Судьба погибших на поле боя была различной. Существовала традиция отыскания среди мертвых тел представителей правящей и военной элиты, в число которых могли попасть и отличившиеся в битве воины. Тела таких «лучших» людей, независимо от времени года, победители забирали с собой для «честного» и «правильного» захоронения на родине, причем расстояние, которое приходилось преодолевать, иногда составляло много сотен верст. (Следовательно, объезд великим князем с приближенными поля боя и поиск убитых князей и воевод, описываемый в «Сказании», отвечал существовавшей традиции, был частью ритуала «стояние на костях».) При этом тела единоверцев незнатного происхождения подлежали погребению в скудельницах, выкопанных на поле сражения. Именно такая qusi-могила изображена на миниатюре II Остермановского тома Лицевого свода, составленного на основании Никоновской летописи. Интересно, что хоронили павших строго по «полкам» (отрядам, состоявшим из жителей одной местности или города) — каждый полк предавал земле своих земляков в особой скудельнице. Существовала практика отпевания усопших духовными лицами. Так, по свидетельствам, поступали с телами павших в войнах второй половины XVII в. [Булычев: 39–40]. Стоит вспомнить, что «в Древней Руси не только литературная, не только иконописная, но и поведенческая установка на повторение и подражание была общепринятой» [Панченко: 241]. После битвы было принято, кроме того, собирать оружие, доспехи и все самое ценное. Оружие и доспехи у противников и своих собирали почти всегда: до Нового времени металл был очень дорогим. Подобная практика существовала с древних времен и в Европе.
Ритуал «стояние на костях» нашел отражение в литературе и искусстве. Обращение к нему мы находим в стихотворении современного автора, историка по образованию, Алексея Клоковского «Стояние на костях»25 из его цикла «Куликовская битва»26. Ритуал «стояние на костях» осмысляется им как воз-дание почести павшим русским воинам: оставшиеся в живых обещают убитым молиться за них на каждой службе в храме и просят павших воинов, когда они вольются в «небесный полк», помолиться о них. Здесь и еще один мотив — упрек убитым противникам, пришедшим на Русскую землю и нашедшим здесь свою погибель. Автор стихотворения отказывает им, как захватчикам, в праве быть вписанными в Книгу Жизни (Книгу Памяти). И в то же время автор говорит о жалости к павшим врагам:
«Без Него — ничего хорошего.
Жаль и ворогов в этот час.
Что лежите, своими брошены? Нам — тем более не до вас.
Вашей плотью степь завалена.
Ваша гордость лежит в пыли. Кто вы, что вы? Мы вас не звали. Для чего вы сюда пришли?»
В стихотворении звучит горькое пророчество, что тишина установилась после битвы ненадолго, что нападения врагов на Русскую землю будут, к сожалению, продолжаться.
«Тихо стало… Надолго? Вряд ли.
Ратным людям — одна пора.
Земли русские необъятны И распахнуты на ветра.
Южный, западный и восточный Нагоняют сюда врагов.
Бой закончили, спор — не кончен До скончания всех веков»27.
Здесь та же мысль, которая является едва ли не центральной в цикле стихотворений «На поле Куликовом» Александра Блока28 (с его «прозрением русских исторических судеб, всегда трагических»29), оказавшего несомненное влияние на Алексея Клоковского. Автор расширяет описание конкретного события до масштабного анализа всей русской истории. Победа на Куликовом поле и свержение ига не принесут покоя русским людям. Еще неоднократно Русь будет находиться в условиях смертельной опасности, исходящей от внешних врагов — «И вечный бой! Покой нам только снится…».
Ритуал «стояния на костях» упоминается Алексеем Кло-ковским и в другом стихотворении цикла: «Куликовская битва. Вечер после боя». Здесь после описания спокойно и устало («шагом») едущих после боя воинов-победителей в наступившей тишине, которая «звенит в ушах», читаем то же горькое пророчество о новых битвах:
«Победители едут шагом.
Тишина звенит в ушах.
Соберутся опять под стягом, На костях»30.
Среди многочисленных картин на темы Куликовской битвы есть несколько полотен, на которых изображается стояние русских воинов после победы на поле битвы. Одна из таких картин так и названа — «Стояние на костях». Ее создал художник Павел Викторович Рыженко (1970–2014), написавший цикл картин «Поле Куликово». На картине изображен ритуал прощания с павшими в бою воинами, молитвы за них, отпевание их и захоронение в братских могилах (скудельницах).
В культурной памяти русского народа Куликовская битва стала символом победы, доставшейся ценой огромных человеческих потерь. Размышляя о связи Куликова поля, Полтавы и Бородина как символов победы, А. М. Панченко отмечает, что «для нации эти битвы были нравственной заслугой. Без нее символ невозможен. Именно поэтому в качестве символов изображались не легкие, а тяжелые, жертвенные победы: подвиг и жертва неразделимы» [Панченко: 247].

Илл. 1. Павел Рыженко. «Поле Куликово. Стояние на костях». 2013 г.31
Fig. 1. Pavel Ryzhenko. “Kulikovo Field. Stoyanie na Kostyakh”. 2013

Илл. 2 . Фрагмент картины П. Рыженко «Стояние на костях»
Fig. 2 . Fragment of P. Ryzhenko’s painting “Stoyanie na Kostyakh”
* * *
Итак, композиционный топос воинского повествования «стояние на костях» встречается как в летописных рассказах о битвах, так и в самостоятельных, внелетописных воинских повествованиях XIII–XVI вв. Он выражается разными литературными формулами, в одних случаях используется устойчивый оборот, древнерусский фразеологизм «стал / стали на костях» со значением «оставил(и) за собой поле битвы, победил(и)», а в других — устойчивое выражение «стоял / стояли на костях (столько-то дней)», которому сопутствует в некоторых случаях краткое или пространное описание действий воинов-победителей на поле битвы после ее завершения (воинского ритуала «стояние на костях»). Формула «стал на костях» в летописных рассказах претерпевала изменения, деформировалась, в некоторых случаях дублировалась (или даже заменялась) словом «одолел» («одолел и стал на костях»).
В памятниках Куликовского цикла топос «стояние на костях» осмыслялся и реализовывался по-разному. Летописная лаконичная формула «ставъ на костѣхъ» в значении «победив» использована в рассказе летописного свода 1408 г. В «Летописной повести о Куликовской битве» (свод Фотия 1418 г.) в воинскую формулу «ставъ на костѣхъ» внесено дополнение: указано, что великий князь Дмитрий Иванович стал на костях татарских, что вводит мотив попрания, поругания поверженного врага.
Особенно интересные примеры осмысления и интерпретации топоса «стояние на костях» обнаруживаются в «Сказании о Мамаевом побоище». Если во всех остальных произведениях Куликовского цикла топос использован один раз (великий князь Дмитрий Иванович вместе с другими князьями и воеводами «стал на костях»), то в «Сказании о Мамаевом побоище» он употреблен дважды. Первый раз — вне традиции, по отношению к Владимиру Андреевичу Серпуховскому, который как победитель «стал на костях» под знаменем (именно он представлен в «Сказании» главным героем Куликовской битвы); второй раз топос употреблен по отношению к великому князю Дмитрию Ивановичу, но здесь он реализуется уже не формулой со значением «победил», а сообщением о том, сколько дней великий князь «стоял на костях», то есть находился на поле боя, хороня своих воинов. В разных редакциях «Сказания» ритуал «стояния на костях» описывается более или менее подробно. Это описание соответствует практике захоронения павших в битвах XVII в.
В Пространной редакции «Задонщины» формула «стать на костях» употреблена, как и в «Летописной повести о Куликовской битве», одновременно по отношению к обоим князьям — Дмитрию Ивановичу и Владимиру Андреевичу. В «Задонщи-не заметна тенденция примирить две противоположные точки зрения на то, кто был главным героем Куликовской битвы. Рядом с именем Дмитрия Ивановича, как правило, стоит и имя Владимира Андреевича, они действуют сообща, совместно «стали на костях». В Синодальном списке «Задон-щины» топос «стояние на костях» осмыслен как «пляска на костях» поверженного врага, как радость от победы и богатой военной добычи, захваченной в стане ордынцев.
Можно констатировать, что в памятниках Куликовского цикла мы находим разное осмысление топоса «стояние на костях»: и отмеченное Д. С. Лихачевым (символ победы и победителя), и то, которое предложено О. В. Иванайнен (стояние на костях противника, попрание поверженного врага), и то, которое указано Д. Б. Терешкиной (оплакивание, отпевание и захоронение погибших соотечественников).
Композиционный топос «стояние на костях» искусно использовался авторами древнерусских повествований о битвах для выражения той или иной идеи, для утверждения той или иной мысли. Следовательно, «традиционный», «трафаретный» топос рассказов о битвах на самом деле оказывался в конкретном контексте вариативным не только с точки зрения реализующей его формулы, но и с точки зрения заключенного в нем смысла.
Топос «стояние на костях» нашел отражение в литературе и искусстве: в цикле стихов А. Клоковского «Куликовская битва» и в картинах, одна из которых (художника П. Рыжен-ко) так и названа — «Стояние на костях». Таким образом, топос «стояние на костях» — один из структурных элементов рассказов о битвах — превратился в символ судьбоносной победы над врагами, доставшейся ценой огромных человеческих жертв, в символ «стояния за Русскую землю».
Список сокращений
Н1Л — Новгородская первая летопись
Н4Л — Новгородская четвертая летопись
НК-2 — Новгородская Карамзинская летопись
П1Л — Псковская первая летопись
П2Л — Псковская вторая летопись
ПКЦ — Памятники Куликовского цикла / сост. А. А. Зимин, Б. М. Клосс, Л. Ф. Кузьмина, В. А. Кучкин; под ред. Б. А. Рыбакова и В. А. Кучкина. СПб.: БЛИЦ, 1998. 410 с.
ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси. М., 1978–1994. Вып. 1–12.
Повести-1959 — Повести о Куликовской битве / изд. подгот. М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 511 с.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
Сказания-1982 — Сказания и повести о Куликовской битве / изд. подгот. Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачева. Л.: Наука, 1982. 422 с.
СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. 1975–2019–…; вып. 1–31–… (продолжающееся издание).
С1Л — Софийская первая летопись
С2Л — Софийская вторая летопись
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН)
Список литературы Топос "стояние на костях" в древнерусских повествованиях о битвах
- Адрианова-Перетц В. П. Слово о Куликовской битве Софония рязанца (Задонщина) // Воинские повести Древней Руси / под ред. чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. С. 143-165.
- Антонова М. В. Сюжетные топосы в агиографии: постановка вопроса // Вестник Брянского гос. ун-та. 2013. № 2. С. 172-175.
- Башлыкова М. Е. Топика житий в Киево-Печерском патерике редакции 1661 года // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. Сб. 15. С. 187-416.
- Булычев А. А. Куликово поле: Живые и мертвые. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2014. 88 с.
- Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина: опыт изучения поэтики конвергентного сознания. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 2001. 291 с.
- Державина О. А. Картины битвы в русской литературе XI-XX вв. // Проблемы изучения культурного наследия: [сб. ст.]. М.: Наука, 1985. С. 215-221.
- Дмитриев Л. А. Обзор редакций Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 464-470.
- Евсеева [Лобакова] И. А. Анализ формульного стиля Повести о разорении Рязани Батыем // Рукописная традиция XVI-XIX веков на Востоке России. Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения РАН, 1983. С. 120-125.
- Зайнуллина С. Р. Традиционные формулы русских летописей: структура и семантика (на материале «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ижевск, 2015. 20 с.
- Иванайнен О. В. «Азъ» летописца в «Повести временных лет», его варианты и способы выражения // Герменевтика древнерусской литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2014. Сб. 16-17. С. 389-582.
- Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул / пер. с англ. Е. М. Лазаревой // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 33-64.
- Конявская Е. Л. Проблема общих мест в древнеславянских литературах (на материале агиографии) // Ruthenica. Кшв, 2004. Т. 3. С. 80-92.
- Курциус Э. Р. Европейская литература и латинское Средневековье: в 2 т. / пер., коммент. Д. С. Колчигина / под ред. Ф. Б. Успенского. 2-е изд. М.: Издательский дом ЯСК, 2021. (Studia mediaevalia).
- Левинтон Г. А., Смирнов И. П. «На поле Куликовом» Блока и памятники Куликовского цикла // ТОДРЛ. Л.: Наука, 1979. Т. 34. С. 72-95.
- Лихачев Д. С. Устные истоки художественной системы «Слова о полку Игореве» // Слово о полку Игореве: сб. исслед. и статей / под ред. чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Наука, 1950. С. 53-92.
- Лихачев Д. С. Литературный этикет древней Руси (к проблеме изучения) // ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 17. С. 5-16.
- Логунова Е. В. Поэтика русского исторического повествования 20-х годов XVII века: топика и библеизмы: автореф. дис. . канд. филол. наук. М., 2006. 29 с.
- Лопухин А. П. Толкования на книгу Иисуса Навина [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_06/10 (01.06.2021).
- Мансикка В. И. Житие Александра Невского. Разбор редакций и текст. СПб.: б. и., 1913. 137 с.
- Медведев А. А. Поэтика святительских житий (на материале житий святых Петра, Алексия и Ионы Московских): автореф. дис. . канд. фи-лол. наук. М., 2017. 24 с.
- Митленко С. Последний из могикан — художник Павел Рыженко. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43263426482/ Posledniy-iz-mogikan---hudozhnik-Pavel-Ryizhenko,-ch.1 (01.06.2021).
- Орлов А. С. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М.: Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1902. 50 с.
- Орлов А. С. О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI-XVII вв. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1909. 36 с.
- Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. Исследование и тексты. Л.: Наука, 1985. 232 с.
- Панченко А. М. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 1986. С. 236-251.
- Пауткин А. А. Батальные описания Повести временных лет (своеобразие и разновидности) // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1981. № 5. С. 13-21.
- Приселков М. Д. Троицкая летопись: реконструкция текста. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 516 с.
- Прохазка Е. А. О роли «общих мест» в определении жанра древнерусских воинских повестей // ТОДРЛ. Л.: Наука, 1989. Т. 42. С. 228-240.
- Ревелли Дж. Старославянские легенды святого Вячеслава Чешского и древнерусские княжеские жития // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 9. М.: Наследие, 1998. С. 79-93.
- Робинсон А. Н. К вопросу о народно-поэтических истоках стиля «воинских повестей» Древней Руси // Основные проблемы эпоса восточных славян. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 131-158.
- Руди Т. Р. «Яко столп непоколебим» (об одном агиографическом топо-се) // ТОДРЛ. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. Т. 55. С. 211-227.
- Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография. Исследования, публикации, полемика / отв. ред. С. А. Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. Вып. 1. С. 59-101.
- Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 431-500.
- Соколова Л. В. К характеристике «Слова» Даниила Заточника. (Реконструкция и интерпретация первоначального текста) // ТОДРЛ. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Т. 46. С. 229-255.
- Соколова Л. В. Летописные повествования о Куликовской битве: к вопросу о взаимоотношении памятников // ТОДРЛ. СПб.: Наука, 2014. Т. 63. С. 305-353. (а)
- Соколова Л. В. Первоначальна ли Краткая редакция «Задонщины»? (В связи с новейшими работами о взаимоотношении «Слова о полку Игореве» и «Задонщины») // ТОДРЛ. СПб.: Наука, 2014. Т. 62. С. 673-724. (Ь)
- Соколова Л. В. Что сообщалось об Олеге Рязанском в авторском тексте Повести о Куликовской битве? (К вопросу о позднейших вставках в «Летописной повести») // ТОДРЛ. СПб.: Наука, 2019. Т. 66. С. 76-109.
- Соколова Л. В. История возникновения и особенности памятников Куликовского цикла // Русская литература. 2020. № 3. С. 153-164. (а)
- Соколова Л. В. К вопросу о датировке и авторстве «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. СПб.: Наука, 2020. Т. 67. С. 643-682. (Ь)
- Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: в 3 т. СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1893. Т. 1: А-К. 1420 стб.
- Степанов А. Д. Понятие «топос» — проблема границ // Мир русского слова. 2018. № 2. С. 41-46.
- Творогов О. В. Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 18. С. 277-284.
- Творогов О. В. Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси // ТОДРЛ. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 20. С. 29-40.
- Терешкина Д. Б. «На Господа уповал — и не погибну: будущее в мотиве испытания в древнерусской воинской повести // Будущее как сюжет: сб. ст. и материалов по итогам научной конференции «Будущее как сюжет» (Тверь, 10-12 апреля 2014 года). Тверь: Изд-во Марины Бата-совой, 2014. С. 13-21. (Время как сюжет; Вып. 3.)
- Трофимова Н. В. Поэтика древнерусского воинского повествования. М.: Изд-во МПГУ 2017. 274 с.
- Федотов Г. П. На поле Куликовом // Современные записки: Общественно-политический и литературный журнал. № XXXII. Париж, 1927. С. 418-435.
- Arbusow L. Colores rhetorici. Eine Auswahl rhetorischer Figuren und Gemeinplätze als Hilfsmittel für akademische Übungen an mittelalterlichen Texten. Genève, Slatkine Reprints, 1974. Ss. 91-121.
- Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern; München: Francke Verlag, 1984. 10 Aufl. 608 s.