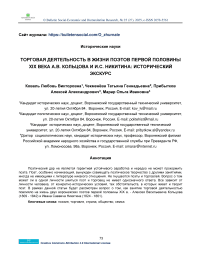Торговая деятельность в жизни поэтов первой половины XIX века А.В. Кольцова и И.С. Никитина: исторический экскурс
Автор: Коваль Любовь Викторовна, Чекменёва Татьяна Геннадьевна, Прибытков Алексей Александрович, Марар Ольга Ивановна
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 25 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
Поэтический дар не является гарантией устойчивого заработка и нередко не может прокормить поэта. Поэт, особенно начинающий, вынужден совмещать поэтическое творчество с другими занятиями, иногда не имеющими к литературе никакого отношения. Не гнушаются поэты и торговлей. Вопрос о том может ли в одной личности ужиться поэт и торговец не имеет однозначного ответа. Все зависит от личности человека, от конкретно-исторических условий, тех обстоятельств, в которых живет и творит поэт. В рамках данной статьи будет рассмотрен вопрос о том, как занятие торговой деятельностью повлияло на жизнь двух воронежских поэтов первой половины XIX века - Алексея Васильевича Кольцова (1809 - 1842) и Ивана Саввича Никитина (1824 - 1861).
Поэзия, торговля, страна, общество, семья
Короткий адрес: https://sciup.org/14132756
IDR: 14132756 | DOI: 10.5281/zenodo.14975976
Текст научной статьи Торговая деятельность в жизни поэтов первой половины XIX века А.В. Кольцова и И.С. Никитина: исторический экскурс
Имена А.В. Кольцова и И.С. Никитина неразрывно связаны. В русскую поэзию, которая была в начале XIX века по преимуществу занятием и достоянием дворянства, благодаря их творчеству влилась стихия народного мироощущения и народного языка, многовековая фольклорная традиция.
Кольцов и Никитин родились в Воронеже, на юге России; оба происходили из семей, для которых основным доходом служила торговля. Кольцов был сыном прасола, то есть торговца скотом, а отец И.С. Никитина происходил из духовного сословия, но вышел из него, приписался к мещанам и занялся торговлей свечами, затем содержал постоялый двор. Для обоих занятия литературой в силу жизненных обстоятельств не могли стать профессией. Кольцов был вынужден продолжать торговые дела отца, Никитин по финансовым причинам не мог отказаться от содержания постоялого двора. Хотя в этом для них, видимо, был и свой смысл, своя польза. Кольцову, например, именно его постоянные путешествия в качестве приказчика по южнороссийским степям, когда приходилось целые дни скакать верхом, ночевать у костра под открытым небом, тесно общаться с крестьянами, входить в их бытовую и трудовую жизнь, помогли полнее и глубже почувствовать поэтическое очарование природы, усвоить истинно народный взгляд на мир и научиться говорить об этом по-народному просто, но красочно и задушевно.
И Никитину встречи и беседы с многочисленными постояльцами из разных российских губерний добавляли не только жизненного опыта, но много давали и для творчества: недаром в его творчестве с прекрасными пейзажными зарисовками, с тонкими лирическими размышлениями соседствуют сюжеты из судеб крестьян и ямщиков, бурлаков и городской бедноты, странников и артельных рабочих.
Оба народных поэта всю жизнь занимались самообразованием. Алексей Кольцов мальчиком осваивал грамоту дома, да так успешно, что сразу смог поступить в двухклассное уездное училище, минуя необходимый предварительный этап – приходское училище. Правда, из второго класса отец его забрал, посчитав, что полученного образования сыну для участия в торговле вполне достаточно, и отдушиной для любознательного подростка стала личная библиотека воронежского книгопродавца Дмитрия Кашкина, хозяин которой, начитанный человек, сам писавший стихи, безвозмездно позволял пользоваться юному поэту-самородку. А Иван Никитин поначалу учился в духовной семинарии, однако – опять же по настоянию отца, не справлявшегося из-за пьянства и буйного характера с ролью хозяина постоялого двора, вынужден был бросить учёбу. Иван сам изучал языки – французский и немецкий, знакомился с произведениями классической западноевропейской литературы. Позже, в 1859 году, воспользовавшись ссудой, он открыл в Воронеже книжный магазин с читальней, который стал культурным центром города.
И литературные судьбы их в чём-то похожи: при жизни обоим посчастливилось испытать хоть и не великую славу, но всё же признание – как читателей, так и критиков, даже войти в сообщество тех, на которых сами они смотрели как на учителей. Стихи Никитина публиковались в «Отечественных записках», Н.А. Добролюбов благожелательно писал о нём в «Современнике». Кольцов тесно сдружился с Белинским, был знаком с Пушкиным. Но жилось им тяжело, работать приходилось непосильно. И ушли из жизни и Алексей Васильевич, и Иван Саввич рано – один тридцатитрёхлетним, другой – в возрасте тридцати семи лет: оба скончались от чахотки и покоятся теперь тоже рядом – на так называемом «Литературном некрополе» в Воронеже.
II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
А.В. Кольцов, отучившись год и четыре месяца в уездном училище (1820 -1821), с тринадцати лет стал помогать своему отцу в его торговых делах. Отец Кольцова выбился из среды мелких торгашей-прасолов и шибаев (торговцев-перекупщиков).
Принцип ведения торговых дел Кольцова-старшего – «не обманешь – не продашь», стал принципом и поэта Кольцова.
По воспоминаниям М.Н. Каткова, Алексей Васильевич с удовольствием рассказывал о том, как он "надувал" неопытных покупателей и продавцов. « - Уж если торгуешь, все норовишь похитрее дело обделать: руки чешутся! - говорил прасол. - Ну, а если бы вы, Алексей Васильевич, с нами имели дело,-спросил Белинский,- и нас бы надули? - И вас,- отвечал Кольцов,- ей Богу, надул бы... Может быть, и вдвое потом бы назад отдал, а не утерпел бы: надул!»
Подобная практичность шокировала многих петербургских и московских литераторов, и они не могли принять тот факт, что Кольцов - поэт, а не простой торговец. Как не странно, в пору юности Кольцова мало трогали мелочность в ведении торговых дел, необходимость присутствовать при забое скота, не всегда честные тяжбы с крестьянами, неодобрительное отношение близких к таким занятиям как чтение и сочинительство. Поездки в степь, ночевки под открытым небом, звуки русской песни, хороводы, простор и красота природы, вот, что завораживало Кольцова, будоражило его воображение, и слова складывались в песни сами собой. Жизнь в степи «на заре туманной юности» была полна молодецкой удали и отвечала поэтической стороне характера Кольцова. Но со временем, не без влияния В.Г. Белинского, поэт начал тяготиться своей жизнью, жизнью торговца прасола. К тридцати годам необходимость прибегать к уловкам для успешного ведения торговых дел, пошлые разговоры воронежских знакомых, все то, что раньше не задевало душу поэта, скользило по ней, начинает угнетать Кольцова. Начиная с 1838г., почти в каждом письме к И.В. Белинскому А.В. Кольцов пишет о том, ему тошно, от той жизни, которую он ведет в Воронеже, о том, что ему некогда заниматься поэзией». В 1838 г. в одном из июльских писем к Белинскому Кольцов пишет: «В Воронеж я приехал хорошо; но в Воронеже жить мне противно прежнего вдвое хуже: скучно, грустно, бездомно в нем. <…>Словесностью занимаюсь мало, читаю немного – некогда; матерьялизм дрянной, гадкий, а вместе с тем необходимый. Плавай, голубчик, на всякой воде, где велят дела земные; ныряй и в тине, когда надобно нырять; гнись в дугу и стой прямо в одно время». В другом письме от 27 июля 1838 года поэт сетует: «Плоха что-то моя голова сделалась в Воронеже, - одурела малого вовсе, и сам не знаю от чего; не то от этих дел торговых, нет от перемены жизни». В октябре того же года «Бойка скота, стройка дома и туда-сюда, аж на душе тошнит: так хорошо мне жить!». В письме к Белинскому в начале 1839 года Кольцов так описывает свой день: Весь день пробыл на заводе, любовался на битый скот и на людей оборванных, опачканных в грязи, облитых кровью с ног до головы <…>. А вечером сижу в своей маленькой горенке, пишу к вам письмо».. Хлопоты по торговым делам съедали почти все время Кольцова хотелось ему того или нет. «Торговля – грязь, дрянь, а на моем месте вещь необходимая, - вози покуда запряжен…».
В двадцать лет прасольство и занятие поэзией Кольцову как-то удавалось совмещать, но в тридцать он ощущает необходимость отказаться от ведения торговых дел, чтобы не погубить себя. «Пророчески угадали вы мое положение, - писал Алексей Васильевич Белинскому в августе 1840 года. У меня самого давно уже лежит на душе грустное это сознание, что в Воронеже долго мне не быть. Давно живу я в нем и гляжу вон, как зверь... Тесен мой круг, грязен мой мир, горько жить мне в нем, и я не знаю, как я еще не потерялся в нем давно... Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживает меня от падения. И если я не переменю себя, то скоро упаду. Это не минуемо как дважды два [четыре]. Хоть я и отказал себе во многом и, частью живя в этой грязи, отрешил себя от ней, но все-таки не совсем, но все-таки я не вышел из нее».
Поэт хотел оставить торговлю, но здравый смысл подсказывал, что в этом случае жить ему будет не на что. Рассчитывать на заработок от публикаций стихов Кольцов не мог... «Что за них дадут? - писал Алексей Васильевич в письме к приятелям, в Петербург. И что за них буду получать в год? Пустяки: на сапоги, на чай, и только! Талант мой, надо правду говорить, особенно теперь, в решительное время, -талант мой - пустой... Несколько песенок в год - дрянь... Что, если в 40 лет придется нищенствовать?..».
Кольцов мечтал «сесть в горницу, читать, учиться», но переменить жизнь, вырваться из родительского дома вдаль не так-то просто, тем более, как писал Алексей Кольцов, «уж с годом тридцать, и тело стало тяжело, и я стал ленив, мне уж нужен больше покой, а не жизнь разнообразная».
Потому он и не принял предложение владельцев и соиздателей журнала «Отечественные записки» Андрея Александровича Краевского и Виссариона Григорьевича Белинского стать питерским книгопродавцем. Книжная торговля, по мнению Алексея Кольцова такая же, как и всякая другая, а «где торговля, там и подлость», особенно, если капитал маленький. Будучи человеком основательным и практичным, Кольцов просто так не отмахивается от сделанного ему предложения. В письме к Белинскому приводит денежные расчеты, связанные с открытием книжной лавки в Питере, и показывает, что его деятельность как книгопродавца не может обойтись без подлости и обмана. Для этого нужно «привезти своих пять тысяч, взять у Андрея Александровича тоже пять тысяч, у вас две тысячи, заняться самому, приказчика не иметь; через год вам денег ни копейки не отдать, входить во всякие дряни, позволять себе все… Но я решительно на это не способен и делать так не могу и не мастер…». И даже если удастся избежать неблаговидных и подлых поступков, все равно торговля не позволит учиться, не позволит заняться литературой. Купец, по мнению Кольцова, может быть литератором, сочинять стихи в том случае, если первоначальный капитал был заработан отцами или дедами. Имея небольшой капитал все купеческие дела надо вести самому и на литературу времени не будет. Кольцов оказался загнан в угол. Содержать себя, не занимаясь торговлей, он не мог, а, занимаясь торговлей, терял себя, чувствовал, что рано или поздно опуститься в грязь, перестанет писать. В последние два года жизни Кольцов под влиянием ряда обстоятельств (сложных отношений с семьей, чахотки, любовных неурядиц, неопределенности будущего) находился в подавленном состоянии. И все эти горькие обстоятельства либо усугублялись, либо были порождением изменившегося отношения Кольцова к торговле. Отец Кольцова, видя, что сын утратил интерес к торговле, не желает ему помогать в строительстве нового дома, хотел, чтобы Алексей ушел прочь со двора. Кольцову некуда было идти, он остался в доме. Свое неудовольствие отец выразил тем, что поселил больного чахоткой Кольцова в проходной, но главное сырой комнате (после свадьбы сестры Кольцов переберется в маленькую комнату). Отец не давал денег на лечение сына, и доктор, поклонник поэзии Кольцова, лечил его бесплатно. Вдова, которую полюбил Алексей Кольцов, не имея средств к существованию, ушла от Кольцова.
Неоднозначна роль торгового занятия и в жизни другого воронежского поэта – И.С. Никитина. Иван Саввич Никитин, как и Алексей Васильевич Кольцов, был сыном мещанина, занимающегося торговлей. Но в отличие от Кольцова в детстве и ранней юности ему не пришлось вникать в торговые дела. Детство и юность походило в материальном довольстве. Отец Никитина, хоть и был самодуром, как и отец Кольцова, книги ценил и мечтал дать сыну университетское образование. Но желанию Саввы Евтихиевича выучить единственного сына на врача не суждено было сбыться. Иван Саввич, окончив Воронежское духовное училище (1833 - 1839), учился в семинарии (1839 - 1843). Однако семинарию пришлось оставить из-за тяжелого материального положения, в котором оказалась семья. Отец Никитина, Савва Евтихиевич запутался в торговых делах, продал завод восковых свечей, а вместо этого купил постоялый двор, который отдал в аренду. На некоторое время Никитины сохранили за собой свечную лавку. Но вскоре и ее пришлось закрыть, а вместо этого в праздничные дни бывший студент под насмешки торговой братии торговал свечами на городской площади. Но и от этой торговли из-за недостатка средств Иван Саввич отказался, а вместо этого он остриг кругом волосы, надел чуйку, сапоги и принялся дворничать, т.е. стал вести все хозяйство постоялого двора вместо арендатора. Никитин не имел никакой поддержки, мать умерла, отец, не сумев пережить свой материальный крах, крепко запил. Ивану Саввичу пришлось самому зазывать к себе на двор извозчиков, выдавать им овес и сено, поить водкой, порой готовить для них еду.
В любую погоду, по приезду извозчиков, Никитину надо было выскакивать на двор и собственноручно перетаскивать нагруженные сани и телеги, «чтобы поместить на дворе побольше извозчиков и угодить им».
Содержание постоялого двора отнимало немало душевных сил у Никитина, подобно тому, как в пору зрелости бесконечные торговые дела отнимали их у А.В.Кольцова. Поэт целыми днями бегал со двора в дом, из дома во двор, наводя там порядок, почти не имея времени на то, чтобы сложить стих, почитать что-нибудь.
В январе 1859 г. И.С.Никитин писал Н.И Второву и И.Н. А. Придорогину: «...в доме между тем неумолкаемый крик и шум, на дворе - песни извозчиков, в кухне - перебранка дворников с кухаркой, в амбаре - воровство овса, и все это требует моего надзора и разбирательства, минуты не дает мне покою!» -
В дворнической жизни, как и в жизни прасола, было не мало житейской грязи. Правда грязь эта была разного свойства. Торговля скотом требовала «входить во всякие подлости», обманывать , надувать, крутиться, изворачиваться, наблюдать сцены забоя. Дворническое занятие не обходилось без «пошлых полупьяных гостей, звона рюмок, полуночных криков…». Житейская суета преследовала и угнетала Никитина также как и Кольцова. В апреле 1858 г. Никитин писал Н.И. Второву: «Нет ни одного дня, чтобы не слышал я толков о горшках, корчагах, щах и проч., да иди в кухню, да посмотри, да помири кухарку с дворником, которые побранились за какую-то дрянь. Дворник говорит: "Я жить не хочу". Кухарка легла на печь. "Я, говорит, стряпать не хочу, хоть все оставайся без обеда". Право, голова пойдет кругом».
Но каким-то непостижимым образом поэт-дворник слагал стихи «при говоре и плоской брани извозчиков, при покупке и продаже овса и сена, при насмешках своих мещан-собратьев.; слагал под гнетом нужды, при упреках своего... » отца.
Благодаря своему поэтическому дару, Никитин стал известен среди представителей образованного общества. Стихотворение «Русь», написанное Никитиным, привлекло внимание воронежского литературного кружка, возглавляемого Н.И. Второвым. И вскоре стихи Никитина получили распространение за пределами Воронежа. Почти в тридцатилетнем возрасте поэт сделался знаменитым (1853). Ему оказывали знаки внимания люди высокопоставленные, например жена воронежского губернатора княгиня Е.Г. Долгорукая. Изменился внешний облик поэта, он остригся, стал одеваться не как дворник, а как литератор. Но двойственность жизни сохранялась. Никитин, будучи признанным поэтом, оставался и дворником, и все, что было в этой жизни темного и тяжелого продолжало мучить Никитина. В иные минуты он забывался, но обязанности дворника властно напоминали о себе. В письме к Второву в августе 1854 года Никитин описал такую сцену. У себя в комнате «стою теперь перед столом, книги на столе в порядке, гляжу на них, улыбаюсь самодовольно и думаю: фу, черт возьми! уж в самом деле не великий ли я человек? Ведь пять книг! Но вдруг, о ужас! Какой-нибудь бородатый дурак выводит из самозабвения криком: "Савелич! Овса! Э, малый, да ты остригся; вишь, виски-то щетина щетиною..." Постоялый двор с его бестолковой суетой, бесконечными хлопотами, пошлостью утомляли Никитина. И как только появляется возможность, Никитин решается на открытие книжного магазина. Книжный магазин и библиотека были открыты Никитиным в феврале 1859 года. Деньги на занятие книжной торговлей помогли Никитину собрать его друзья. Н.И. Второв содействовал изданию и продаже поэмы Иван Саввичча Никитина «Кулак», он же помог одолжить недостающую сумму у предпринимателя В.А. Кокарева. Никитин был счастлив. Через два месяца после открытия магазина в письме к Н.И. Второву он так описывал нахлынувшие на него мысли и чувства: «Вот ты был дворник, жил в грязи, слушал брань извозчиков; теперь ты хозяин порядочного магазина, всегда в кругу порядочных людей", -и много, много приходило мне тогда на ум, как приходит и в эту минуту (я пишу в магазине), и хочется мне плакать, да, мой друг, плакать и молиться». Однако друзья не разделяли радости поэта. Они опасались, как опасался за себе А.В. Кольцов, что книжная торговля затянет Никитина, он перестанет заниматься литературой, сделается кулаком. Отчасти эти опасения подтвердились. Поэт стал меньше уделять внимание литературе. В период своего пребывания в Москве и Санкт-Петербурге летом 1860 года он занимался только вопросами книжной торговли, общался с поставщиками и не завязал ни одного литературного знакомства.
В письме к Ф.М. Де-Пуле Никитин мало пишет о произведенном Москвой впечатлении, но входит в мельчайшие подробности своих дорожных расходов. «В Ефремове взяли с меня за перетяжку 3-х колес 3 руб. 90 к., в Воронеже они стоили бы не более 75 коп. серебр., что положительно мне известно. На последней станции под Москвою сломался шкворень, за сварку которого я заплатил 1 руб. 50 коп., тогда как его можно приобрести за 75 коп. новый. Завяжут или развяжут какую-нибудь веревку на Вашем экипаже - давайте на водку; подмажут колеса, кроме положенных на это 12 к., - опять давайте на водку...
Верите ли, наконец приходишь в бешенство, когда является какая-нибудь глупая рожа старосты, подстаросты, дворника, почтового сторожа, и так далее, и так далее и ни за что, ни про что, с наглейшею улыбкой, произносит свое привычное: "Пожалуйте на водку!" Короче, если Вы в дороге будете кротки и терпеливы, Вас обдерут, как липку». Книжная торговля сделалась для Никитина важнейшим делом. Его письма к Второву с декабря 1858 года преимущественно посвящены делам книжного магазина, содержат в себе множество мелких просьб, связанных с приобретением книг, письменных принадлежностей, в них говориться о том, что он не может позволить нанять себе приличного приказчика и все дела приходится вести самому и т.д. Для сравнения ранее в письмах к Второву Никитин интересовался тем, что появлялось нового в литературе.
Друзья Никитина Н.И. Второв и особенно И.А. Придорогин стремились не допустить перерождения поэта в торгаша. И.А. Придорогин зорко следил за торговой деятельностью Ивана Саввича. "Стоило только Никитину,- рассказывает Де-Пуле,- продать какую-нибудь пачку конвертов или часть почтовой бумаги по цене большей на 10-20%, допускаемых для честного торговца, следовал упрек "в отступлении от начал, раз принятых", или Придорогин летел ко мне и печально провозглашал: "Пропал наш Савка, окончательно пропал! Торгаш и кулак стал совершенный! От того и "Кулака" хорошо написал, что в самом-то в нем сидел кулак. Нет, этого нельзя допустить!" И поскольку И.А. Придорогин был убежден, что "не могут ужиться в одном человеке торгаш и поэт: одно что-нибудь непременно убьет другое...", то он сам и через Н.И. Второва пытался убедить Никитина отказаться от книжной торговли. Однако И. Никитин страстно отстаивает свое детище. Торговля книгами слишком много ему дала. Речь идет не о материальной стороне дела. Книжный магазин позволял Никитину укрыться от отца, человека давно опустившегося, устраивавшего пьяные оргии и постоянно напоминавшего Ивану Саввичу через кого он в люди вышел. Убегая в магазин, он находил там душевный покой, пережить оставалась только ночь. Книжная торговля повышала и общественный статус Ивана Саввича Никитина. Раньше был он дворником и окружающие, в том числе вполне интеллигентные, передовые люди, не задумываясь о том, что ранят поэта, могли выразить неуважение к подобному занятию, а значит к человеку, который им занимается. Например, редактор-издатель журнала «Отечественные записки» А.А. Краевский при произведении денежного расчета с Никитиным спросил у его посредника: "На что ему деньги? ведь он также их проест на своем постоялом дворе". Такое замечание очень ярко характеризует пренебрежительное отношение общества к содержателю постоялого двора.
Стихосложение мало сказалось на статусе И.С. Никитина. Иное дело книжная торговля. Она придала уверенности Никитину, он почувствовал себя уважаемым человеком. "Только теперь,- говорил он,- идя по улице, я смело смотрю всем в глаза, потому что знаю, что делаю дело. А прежде что? Кто же у нас стихи считает делом!" Торговля захватила Никитина. Но сказать, что в Никитине торгаш убил поэта нельзя. Никитин, став купцом немного, но пишет. В апреле 1860 года он выступает в кадетском корпусе со стихами, специально написанными для публичного чтения в пользу нуждающихся литераторов и ученых. Любовь к Н.А Матвеевой также нашла отражение в нескольких стихах. В 1860 года Никитиным были закончены поэма "Тарас" и крупное прозаическое произведение "Дневник семинариста", работу над которыми Никитин начал еще до открытия магазина. Иван Саввич стал меньше заниматься литературой. Однако случилось то, что для Кольцова было ясно в то пору, когда ему поступило предложение от А.А. Краевского, поддержанного В.Г. Белинским, об открытии книжного магазина. С небольшим капиталом, наживаемом не отцами, а самим, не на что будет нанят приличного приказчика (кстати , Никитин на это постоянно сетовал в своих письмах к Н.И. Второву), все торговые дела придется вести самому. С утра до вечера в течение десяти лет надо будет бегать по торговым делам и времени на литературу не будет.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, торговлю, которой занимались А.В. Кольцов и И.В. Никитин, нельзя назвать однозначно трагическим или счастливым обстоятельством их жизни. С ней были связаны и плохие и хорошие страницы в жизни поэтов. Торговля скотом позволила А.В Кольцову познакомиться с поэтическими сторонами крестьянского быта, ощутить красоту воронежских степей. В то же время торговля познакомила его с изнанкой человеческой души, со всем тем, что есть в этом мире низкого и гадкого. Нежелание торговать, стремление посвятить себя литературе стали причиной тяжелого эмоционального состояния, в котором находился поэт незадолго до смерти. Если сама мысль о торговле и железной необходимости заниматься ей отравляли последние два года жизни А.В Кольцова, то в жизнь И.С. Никитина торговля внесла уверенность. Уверенность в том, что у него есть место, где можно спрятаться от пьяных сцен, разыгрываемых дома, уверенность в том, что он занимается делом, а не просто бумагу марает. Торговля, правда, отнимала все силы и время поэта. Он меньше уделяет внимание творчеству. Но такова была цена, которую заплатил Никитин за свой душевный покой.
В заключение, хотелось бы отметить, что поэт может оставаться поэтом и среди грязи обыденной жизни, и жизнь воронежских поэтов А.В. Кольцова и И.С. Никитина тому подтверждение. Торговые дела сами по себе не являются чем-то убийственным для личности поэта. Однако нельзя не согласиться с Алексеем Васильевичем Кольцовым в том, что поэт, начиная торговлю с небольшим капиталом, в лучшем случае не будет иметь времени на литературные занятия, а в худшем ему придется входить в разные мерзости и дряни.