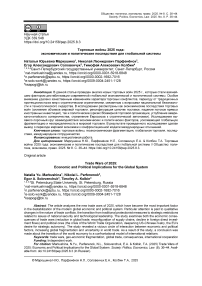Торговые войны 2025 года: экономические и политические последствия для глобальной системы
Автор: Маркушина Н.Ю., Парфенёнок Н.Л., Соловенчук Е.А., Колбин Т.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье проведен анализ новых торговых войн 2025 г., которые стали важнейшим фактором дестабилизации современной глобальной экономической и политической системы. Особое внимание уделено качественным изменениям характера торговых конфликтов, переходу от традиционных протекционистских мер к стратегическим ограничениям, связанным с вопросами национальной безопасности и технологического лидерства. В исследовании рассмотрены как экономические последствия торговых войн (снижение объемов мировой торговли, реконфигурация цепочек поставок, падение потоков прямых иностранных инвестиций), так и политические (кризис Всемирной торговой организации, углубление американокитайского соперничества, стремление Евросоюза к стратегической автономии). Исследование выявило порочный круг взаимодействия экономических и политических факторов, усиливающий глобальную фрагментацию и неопределенность в мировой торговле. В результате проведенного исследования сделан вывод о переходе мировой экономики к конфронтационной модели международных отношений.
Торговые войны, геоэкономическая фрагментация, глобальная торговля, последствия, международное сотрудничество
Короткий адрес: https://sciup.org/149148898
IDR: 149148898 | УДК: 339.548 | DOI: 10.24158/pep.2025.8.3
Текст научной статьи Торговые войны 2025 года: экономические и политические последствия для глобальной системы
Введение . Глобальная экономическая и политическая система в середине 2020-х гг. характеризуется беспрецедентным уровнем сложности и неопределенности. Период после пандемии COVID-19 ознаменовался неровным и замедляющимся восстановлением мировой экономики1, сохранением повышенного инфляционного давления во многих странах2 и резким обострением геополитической напряженности. На данном фоне наблюдается активизация торговых конфликтов, которые приобретают новые черты и масштабы. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно выражали обеспокоенность рисками фрагментации мировой экономики и негативным влиянием неопределенности торговой политики на глобальный рост (Загашвили, 2024).
Примерно в 2024–2025 гг. сформировался следующий этап торгового противостояния, который можно охарактеризовать как «новые торговые войны 2025 года». Он отличается от предыдущих конфликтов (Юнюшкина и др., 2021) не только масштабом, но и качественными характеристиками. Наряду с традиционными протекционистскими мерами все большую роль играет стратегическое соперничество в сфере высоких технологий, известное как «технонационализм»3, а также прямая увязка торговой политики с соображениями национальной безопасности и геополитическими целями4. Кульминацией эскалации стало введение США широких, так называемых «взаимных» (reciprocal) тарифов, затрагивающих большинство торговых партнеров (Capri, 2024; Тебекин, 2025). Это вызвало ответные меры со стороны других стран и привело к дальнейшему росту напряженности. Современная мировая экономика переживает период серьезных испытаний. С одной стороны, развитие глобальной интеграции за последние десятилетия обеспечило трехкратное увеличение мирового внутреннего валового продукта (ВВП) и вывод из крайней нищеты около 1,5 млрд человек5. С другой – усилились геополитические риски, и обострились торговые разногласия между ведущими странами.
Проведение Россией специальной военной операции привело к глобальным сбоям в потоках сырья и продовольствия. Указанные процессы сопровождаются ростом «нарративов» о национальной экономической безопасности (ресоринг, пошлины на технологические товары и пр.), что создает «скользкий путь» к политической и экономической фрагментации. Еще одним негативным фактором стали пандемические ограничения, обострившие уязвимость цепочек поставок и стимулировавшие протекционистские меры. По данным UNCTAD, в 2023 г. товарооборот мира сократился почти на 5 % (снижение около 1,5 трлн долл.)6. Проявления «торговых войн» приобретают новые формы: от тарифных барьеров до технологических и «зелёных» ограничений.
Рассматриваемые конфликты представляют собой системную угрозу для многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, подрывают глобальную экономическую стабильность и усложняют международные отношения. Комплексное понимание их экономических и политических последствий является критически важным для разработки адекватных стратегий реагирования на уровне как государств, так и отдельных бизнес-структур.
Сочетание постпандемической экономической хрупкости, высокой инфляции, геополитической перестройки, ускоренной такими событиями, как конфликт на Украине7, и подъема технонационализма создает уникально нестабильную среду. В ней торговая политика все чаще используется не только для достижения экономических целей, но и как основной инструмент геополитического маневрирования. Государства все активнее применяют экспортный контроль над технологиями8, связывают торговлю с безопасностью и вводят широкие тарифы, оправдывая их сложными комбинациями причин, включая торговые дефициты, национальную безопасность и требования «взаимности». В результате торговые войны приобретают новое качество, а экономические инструменты служат более широким стратегическим целям, что повышает системные риски для всей глобальной архитектуры.
Целью статьи является выявление и анализ экономических и политических последствий возможной эскалации торговых войн в 2025 г.
В настоящем исследовании применяется смешанная методология, сочетающая качественный анализ политических документов, официальных отчетов и академической литературы с количественным анализом макроэкономических и торговых данных.
Качественные методы:
-
– проведен систематический обзор официальных докладов МВФ (World Economic Outlook), ВТО (обзоры торговой политики, доклады по мониторингу), ЮНКТАД (доклады о торговле и развитии, о мировых инвестициях), ВЭФ (доклады о глобальных рисках), документов Торгового представительства США (USTR), региональных организаций (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР) и релевантных академических статей;
-
– в качестве иллюстративных примеров могут использоваться конкретные политические меры (например, взаимные тарифы США, экспортный контроль Китая над редкоземельными металлами) или отраслевые последствия (например, полупроводники, сельское хозяйство, энергетика).
Количественные методы:
-
– анализ тенденций в объемах/стоимости торговли, потоках прямых иностранных инвестиций (ПИИ), тарифных ставках (средневзвешенные применяемые ставки в рамках режима наибольшего благоприятствования (РНБ)), нетарифных мерах, росте ВВП и инфляции для ключевых игроков (США, Китай, ЕС, Россия) и в глобальном масштабе за период 2021–2025 гг. Данные получены из UNCTADstat, ITC TradeMap, WTO Stats/IDB/TTD, IMF WEO Database/DataMapper, World Bank Data/WDI, Eurostat и, потенциально, Global Trade Alert;
-
– в основном используются официальные источники, перечисленные в запросе пользователя (UNCTADstat, ITC TradeMap, WTO TPRs/Stats, IMF WEO, WB Data, Eurostat, WEF Reports, региональные организации).
Результаты исследования . Текущий этап торговых конфликтов, обострившийся к 2025 г., существенно отличается от предыдущих эпизодов, таких, например, как торговая война между США и Китаем 2018–2019 гг.
Новизна исследования проявляется в расширении географического охвата, изменении характера используемых инструментов и явном смещении акцентов с чисто экономических вопросов на геополитические и технологические императивы.
Если торговая война 2018–2019 гг. была преимущественно двусторонним американо-китайским противостоянием, то «новые торговые войны 2025 г.» характеризуются более широким охватом. В частности, введенные США в начале 2025 г. «взаимные» тарифы затронули большинство торговых партнеров страны, а не только Китай1. Кроме того, произошло качественное изменение мотивов и оправданий торговых ограничений. Наряду с традиционными аргументами о торговых дисбалансах и недобросовестных практиках, ключевую роль стали играть соображения национальной безопасности и геополитического соперничества2. Особое значение приобрела конкуренция в сфере высоких технологий, что привело к формированию политики «технонационализма».
Центральным событием, ознаменовавшим начало нового этапа, стало введение администрацией США в апреле 2025 г. так называемых «взаимных» тарифов3. Эта мера включала базовый тариф в размере 10 % на импорт из большинства стран (за некоторыми исключениями, такими как Канада и Мексика в рамках USMCA) и значительно более высокие индивидуальные тарифы для стран, имеющих крупные торговые профициты с США или воспринимаемых как применяющие недобросовестные практики. Например, тарифы на китайские товары были повышены до 125 %, что является беспрецедентным (York, Durante, 2025).
Помимо тарифов, активно используются и другие инструменты. Экспортный контроль применяется в отношении технологий двойного назначения и критически важных материалов (например, ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов, а США – на экспорт полупроводниковых технологий в Китай1). Государства активно поддерживают стратегические отрасли (чистая энергетика, полупроводники, биотехнологии) с целью повышения конкурентоспособности и снижения зависимости от иностранных поставщиков. Примерами являются CHIPS Act в США и аналогичные инициативы в ЕС и Китае. Инвестиционные ограничения включают усиление контроля за иностранными инвестициями по соображениям национальной безопасности2. К нетарифных мерам (НТМ) относится использование технических барьеров (TBT), санитарных и фитосанитарных мер (SPS), требований к локализации и стандартов как скрытых инструментов протекционизма.
Эскалация торговых войн обусловлена целым комплексом факторов.
Во-первых, ключевым катализатором выступает геополитическое соперничество, прежде всего – между США и Китаем, которое рассматривается как борьба за глобальное лидерство. Существенное влияние оказывает на ситуацию и конфликт на Украине, приведший к введению масштабных санкций и ускоривший процессы геополитической фрагментации мирового про-странства3.
Во-вторых, важную роль играет технонационализм – осознание критической важности технологического превосходства в таких сферах, как искусственный интеллект, полупроводники и биотехнологии, для обеспечения экономической мощи и национальной безопасности4.
В-третьих, внутренние политические факторы также способствуют нарастанию торговых конфликтов. Политика в этой сфере становится инструментом мобилизации электората, особенно в США, а также используется для ответа на внутренние экономические вызовы, такие как замедление роста и долговые проблемы в Китае5.
В-четвертых, сохраняют свое влияние постпандемические корректировки. Проблемы в глобальных цепочках поставок, инфляционные шоки и неравномерное восстановление экономик после пандемии COVID-19 создали фон нестабильности и способствовали пересмотру прежних подходов к организации мировой торговли.
Исходя из вышеизложенного, «новые торговые войны 2025 г.» можно определить как эскалацию и трансформацию международного экономического конфликта, характеризующуюся широким и зачастую односторонним использованием торгово-ограничительных мер – тарифов, нетарифных мер, экспортного контроля и субсидий. Данный процесс движим переплетением экономических, геополитических, технологических целей и соображений национальной безопасности, что в конечном итоге ведет к усилению глобальной торговой фрагментации и росту политической неопределенности.
Отличительной чертой «новых торговых войн» является не только масштаб, но и сама их природа. Происходит фундаментальный сдвиг, при котором торговая политика становится явным инструментом для достижения более широких геополитических целей и целей безопасности, выходя за рамки традиционного экономического протекционизма. Традиционные торговые споры часто фокусировались на конкретных секторах (например, сталь, сельское хозяйство) или количественно измеримых дисбалансах и теоретически могли быть разрешены путем переговоров в рамках существующих структур, таких как ВТО. Однако текущие торговые меры, такие как тарифы, экспортный контроль и инвестиционные ограничения, напрямую увязываются с национальной безопасностью, технологическим суверенитетом и геополитическим соперничеством (особенно между США и Китаем)6. Технонационализм рассматривает технологическое доминирование как жизненно важное. Обоснование тарифов США включает соображения национальной безопасности наряду с торговыми дефицитами7. Это переплетение означает, что стандартные тактики торговых переговоров (снижение тарифов в обмен на доступ к рынку) недостаточны, поскольку основные цели безопасности и геополитики менее гибки. Конфликт становится в меньшей степени экономическим и в большей степени связанным с динамикой сил.
Используемая США концепция «взаимности» (reciprocity) (York, Durante? 2025) является весьма спорной и применяется избирательно. Политика властей направлена на выравнивание тарифных уровней с торговыми партнерами. Однако при этом игнорируется исторический контекст (например, различия в тарифных обязательствах развитых и развивающихся стран), разница в экономических структурах и существующие правила ВТО, допускающие расхождения между связанными и применяемыми ставками. США, имея низкие средние тарифы РНБ, активно используют целевые высокие тарифы и НТМ1. Политика избирательно нацелена на страны с торговыми профицитами, необязательно устраняя при этом макроэкономические причины этих дисбалансов. Такое одностороннее переопределение «справедливости» бросает вызов принципу наибольшего благоприятствования ВТО и способствует эрозии многосторонней системы.
Новая волна торговых войн оказывает глубокое и многогранное воздействие на мировую экономику, затрагивая международную торговлю, инвестиционные потоки, глобальные цепочки поставок и макроэкономические показатели. Наиболее заметным последствием является ожидаемое сокращение объемов мировой торговли товарами. ВТО прогнозирует снижение на 0,2 % в 2025 г. при базовом сценарии с риском падения до 1,5 % в случае дальнейшей эскалации напряженности2. Это резкий контраст с рекордным объемом торговли в 33 трлн долл. в 2024 г. и ранее ожидавшимся ростом. Замедление темпов роста наблюдалось уже во второй половине 2024 г. Торговля услугами демонстрировала большую устойчивость, обеспечив основной прирост в 2024 г., однако прогнозы ее роста на 2025 г. также были пересмотрены в сторону понижения (до 4,0 %)3.
Наблюдаются изменения в географической структуре торговли. Отмечается устойчивость кооперации Юг – Юг, хотя и с замедлением в конце 2024 г. Происходит переориентация торговых потоков в обход оси США – Китай. Например, экспорт ЕС смещается в сторону США и сокращается в направлении Китая и России, а последняя активно наращивает торговлю с КНР и другими развивающимися странами. Несмотря на напряженность, растет значение торговли промежуточными товарами, что свидетельствует о сохраняющейся интеграции в глобальные цепочки стоимости (ГЦС).
Прогнозы ВТО указывают на особенно резкое падение экспорта из Северной Америки (–12,6 % в 2025 г.)4. Экономика США, несмотря на сильный внутренний спрос в 2024 г., показывает признаки замедления в 2025 г. Рост Китая в 2024 г. в значительной степени поддерживался внешним спросом, но прогнозы на 2025 г. снижены из-за последствий торговой войны. Торговля ЕС также демонстрирует смешанную динамику. Россия переориентирует свои торговые потоки на Восток.
Динамика экспорта и импорта товаров (млрд долл. США) в 2021–2023 гг. представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Динамика экспорта и импорта товаров (млрд долл. США) в 2021–2023 гг.5
Table 1 – Dynamics of Exports and Imports of Goods (US$ Billion) in 2021–2023
|
Страна/Регион |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
|
США |
экспорт |
1 761,9 |
2 085,6 |
2 019,6 |
|
импорт |
2 938,8 |
3 376,2 |
3 172,6 |
|
|
Китай |
экспорт |
3 369,0 |
3 593,6 |
3 380,0 |
|
импорт |
2 689,0 |
2 716,0 |
2 556,8 |
|
|
ЕС (Экстра-ЕС) |
экспорт |
2 178,6 |
2 572,0 |
2 555,0 |
|
импорт |
2 133,1 |
2 827,5 |
2 516,0 |
|
|
Россия |
экспорт |
492,3 |
531,9 |
422,8 |
|
импорт |
293,3 |
259,1 |
285,1 |
Фиксируется резкий рост числа и охвата торговых ограничительных мер в 2024–2025 гг. Накопленный объем импортных ограничений, действующих с 2009 г., достиг 2,94 трлн долл. к середине октября 2024 г., что составляет 11,8 % мирового импорта (рост с 2,48 трлн долл. (9,9 %) годом ранее). Растет и охват экспортных ограничений. Новые тарифы США (базовый – 10 %, «взаимные» – до 50 %, для Китая – до 125 %) и ответные меры значительно повышают средний уровень тарифной защиты. Средний применяемый тариф США на китайские товары достиг 124,1 %1. При этом базовые средние применяемые тарифы РНБ у основных игроков оставались на относительно низком уровне до последней эскалации (табл. 2), что подчеркивает шоковый характер новых мер.
Таблица 2 – Простой средний применяемый тариф РНБ (%), все товары (2003 г.)2
Table 2 – Simple Average Applied MFN Tariff (%), All Goods (2003)
|
Страна/территория |
Простой средний применяемый тариф РНБ (%) |
|
США |
3,3 |
|
Китай |
7,5 |
|
Европейский союз |
5,0 |
|
Российская Федерация |
6,6 |
Компании и правительства пересматривают стратегии управления ГЦС, стремясь повысить их устойчивость. Вместо консолидации (nearshoring/friendshoring) в 2024 г. наблюдалась тенденция к диверсификации поставщиков по разным регионам3. Это снижает риски концентрации, но усложняет логистику и может повышать издержки.
Глобальные потоки ПИИ демонстрируют снижение: падение на 12 % в 2022 г. до 1,3 трлн долл. и еще на 2 % в 2023 г. – до 1,33 трлн. долл.4 Снижение коснулось в основном развитых экономик в 2022 г. (–37 %), а в 2023 г. – развивающихся (–7 %). Наблюдается значительная волатильность потоков в ЕС и редкое для Китая снижение притока ПИИ в 2023 г. США остаются крупнейшим получателем вложений5. В то же время в 2022 г. наблюдался рост анонсированных гринфилд-проектов, особенно в секторах с проблемами в цепочках поставок и в возобновляемой энергетике/производстве аккумуляторов, хотя эта активность замедлилась в 2023 г.
Данные по ПИИ за 2021–2023 гг. представлены в табл. 3.
Таблица 3 – Данные по ПИИ за 2021–2023 гг.6
Table 3 – FDI Data for 2021–2023
|
Страна/Регион |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
|
США |
приток |
388,4 |
331,8 |
311,0 |
|
отток |
434,7 |
365,9 |
403,9 |
|
|
Китай |
приток |
334,0 |
189,1 |
163,3 |
|
отток |
178,8 |
163,1 |
147,8 |
|
|
ЕС |
приток |
162,4 |
–85,0 |
–41,8 |
|
отток |
311,1 |
136,7 |
125,2 |
|
|
Россия |
приток |
40,5 |
5,9 |
–10,0 |
|
отток |
71,9 |
12,3 |
28,9 |
МВФ и ВТО последовательно снижали прогнозы глобального роста ВВП на 2025 г., напрямую связывая это с эскалацией торговых войн и повышением неопределенности. Прогнозируемый рост на 2025 г. составляет около 2,8–3,3 %, что ниже средних исторических показателей.
Влияние на инфляцию неоднозначно. С одной стороны, замедление глобального спроса может оказывать дезинфляционное давление. С другой – тарифы напрямую повышают цены на импортные товары, а нарушение цепочек поставок и рост неопределенности могут поддерживать инфляционное давление, особенно в секторе услуг. МВФ и ВТО рассматривают торговые войны как фактор риска для роста инфляции, поскольку имеющиеся данные показывают замедление роста и сохранение инфляции в США, снижение прогнозов роста для Китая и ЕС, высокие темпы инфляции в России на фоне умеренного роста.
Динамика изменения реального роста ВВП и инфляции (средние потребительские цены), 2021–2025 гг. (%) представлены в табл. 4.
Таблица 4 – Динамика реального роста внутреннего валового продукта (ВВП) и инфляции (средние потребительские цены), 2021–2025 гг. (%)1
Table 4 – Dynamics of Real Growth of Gross Domestic Product (GDP)
and Inflation (Average Consumer Prices), 2021–2025 (%)
|
Страна/регион |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 (оценка) |
2025 (прогноз) |
|
США |
реальный рост ВВП (%) |
5,9 |
1,9 |
2,5 |
2,8 |
1,8 |
|
инфляция (%) |
4,7 |
8,0 |
4,1 |
3,0 |
3,0 |
|
|
Китай |
реальный рост ВВП (%) |
8,1 |
3,0 |
5,2 |
5,0 |
4,0 |
|
инфляция (%) |
0,9 |
2,0 |
0,3 |
0,2 |
0,0 |
|
|
Европейский Союз |
реальный рост ВВП (%) |
5,5 |
3,3 |
0,4 |
1,1 |
1,2 |
|
инфляция (%) |
2,9 |
8,3 |
6,4 |
2,6 |
2,1 |
|
|
Россия |
реальный рост ВВП (%) |
5,6 |
–1,2 |
3,6 |
4,1 |
1,5 |
|
инфляция (%) |
6,8 |
13,9 |
5,5 |
8,4 |
9,3 |
Экономические последствия торговых войн выходят далеко за рамки прямых издержек от тарифов. Создаваемая ими неопределенность в отношении будущей торговой политики является, возможно, даже более значимым фактором, сдерживающим экономическую активность. Когда компании не могут предсказать будущие торговые условия, тарифные ставки или доступ к рынкам, они откладывают инвестиционные решения. Потребители, сталкиваясь с неопределенностью и потенциальным ростом цен, сокращают расходы, особенно на товары длительного пользования. Финансовые рынки реагируют на политические заявления и действия повышенной волатильностью. Данный эффект «замораживания» экономической активности, вызванный неопределенностью, трудно точно измерить, но международные институты последовательно подчеркивают его как ключевой канал негативного влияния торговых войн на глобальную экономику.
Процесс реконфигурации ГЦС также оказывается сложнее, чем предполагалось. Хотя наблюдается некоторая диверсификация, это не означает простого возвращения производства в развитые страны («reshoring»). Зачастую происходит смещение зависимостей: например, углубление связей между Россией и Китаем, рост роли Вьетнама как альтернативы Китаю или укрепление региональных блоков. Данные показывают, что географическая дистанция торговли существенно не сокращается, в отличие от геополитической. Это свидетельствует о перестройке цепочек вдоль линий геополитической близости, а не обязательно географической. Такая сложная реконфигурация может привести к возникновению новых узких мест, увеличению логистических издержек и сложности управления цепочками поставок, создавая новые уязвимости вместо полного устранения старых.
Основным элементом глобальной перестройки становится углубление стратегического соперничества между США и Китаем, где торговые и технологические барьеры используются как инструменты геополитического давления. Одновременно Европейский союз, стремясь к «открытой стратегической автономии», разрабатывает собственные механизмы защиты от экономического принуждения и сокращает зависимости от внешних поставщиков, особенно в чувствительных секторах.
Серьезным ударом по международной торговой системе стал кризис ВТО и паралич ее системы разрешения споров: блокирование США работы Апелляционного органа с 2019 г. фактически лишило ВТО механизмов принудительного исполнения правил.
Между тем другие международные институты (МВФ, Всемирный банк, G20) также демонстрируют ограниченную способность справляться с последствиями эскалации торговых конфликтов. Развивающиеся страны оказываются в наиболее уязвимом положении: они сталкиваются с новыми барьерами и утратой стабильного доступа к мировым рынкам. Политика стратегической автономии, хоть и направлена на укрепление устойчивости, порождает высокие внутренние издержки и может привести к циклу взаимных ограничений, где торговля превращается в инструмент политического давления, а не взаимной выгоды.
Новые торговые войны 2025 г. являются ярким примером тесного переплетения экономических и политических процессов в современном мире. Экономические меры и политические решения находятся в постоянном взаимодействии, формируя сложные петли обратной связи и оказывая системное воздействие на глобальную архитектуру.
Экономические меры (тарифы, санкции и экспортный контроль) все чаще используются не ради экономической выгоды, а для достижения политических целей. Примером служит американо-китайское противостояние, где каждая сторона отвечает симметричными ударами, что ведет к эскалации или вынужденному поиску компромиссов. Подобная логика проявляется и в технологической сфере: борьба за лидерство провоцирует субсидии и ограничения, что перерастает в торговые споры и углубляет международное недоверие.
Использование односторонних шагов и игнорирование правил ВТО ослабляют доверие между государствами, усложняя не только торговое сотрудничество, но и взаимодействие по глобальным вопросам – от изменения климата до обеспечения финансовой стабильности. В результате возрастает неопределенность, усиливается фрагментация мировой экономики, растет риск образования замкнутых торговых блоков.
С теоретической точки зрения такие процессы бросают вызов либеральному институционализму, настаивавшему на силе правил и институтов. Вместо этого подтверждаются подходы реализма и неомеркантилизма, где доминируют соображения власти, безопасности и конкуренции. Однако и эти теории нуждаются в доработке с учетом новых факторов, прежде всего технологических.
Заключение . Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что новые торговые войны 2025 г. представляют собой серьезный вызов для глобальной экономической и политической системы. Они характеризуются не только ростом протекционизма и применением традиционных торговых ограничений, но и качественными изменениями: тесным переплетением торговой политики с геополитическим соперничеством, стратегической конкуренцией в сфере высоких технологий (технонационализм) и использованием соображений национальной безопасности для оправдания ограничительных мер. Основные экономические последствия включают прогнозируемое замедление и даже сокращение объемов мировой торговли товарами, рост тарифных и нетарифных барьеров, реконфигурацию глобальных цепочек поставок в сторону диверсификации и потенциальной фрагментации, снижение потоков прямых иностранных инвестиций и усиление макроэкономической неопределенности, что негативно сказывается на глобальном экономическом росте и может поддерживать инфляционное давление.
В политической сфере наблюдается дальнейшее углубление американо-китайского противостояния, стремление других центров силы, таких как ЕС, к повышению своей «стратегической автономии», эрозия многосторонней торговой системы, олицетворяемая кризисом ВТО и ее системы разрешения споров, а также усиление влияния внутриполитических факторов на внешнеэкономическую политику государств.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от множества факторов, включая исход политических циклов в ключевых странах, способность международного сообщества найти компромиссы в рамках реформы ВТО и готовность ведущих держав к деэскалации напряженности. Однако текущие тенденции указывают на сохранение сложной и нестабильной обстановки в глобальной торговле в среднесрочной перспективе.
Ограничения данного исследования связаны с динамичностью ситуации и возможными лагами в доступности официальной статистики. Дальнейшие исследования могли бы быть посвящены более глубокому анализу отраслевых последствий торговых войн, долгосрочному влиянию на инновации и технологическое развитие, оценке эффективности стратегий повышения устойчивости цепочек поставок, а также изучению политической экономии торговой политики в ключевых развивающихся странах и региональных блоках.