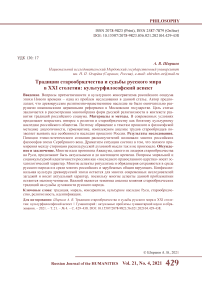Традиции старообрядчества и судьбы русского мира в ХХI столетии: культурфилософский аспект
Автор: Ширшов Александр Васильевич
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. Вопросы преемственности и культурного консерватизма российского социума эпохи Нового времени - одна из проблем исследования в данной статье. Автор предполагает, что древнерусское религиозно-нравственнное наследие не было окончательно разрушено никоновскими церковными реформами в Московском государстве. Цель статьи заключается в рассмотрении многообразия форм русской религиозности в контексте развития традиций российского социума. Материалы и методы. В современных условиях продолжает возрастать интерес к религии и старообрядчеству как богатому культурному наследию российского общества. Поэтому обращение к текстам прошлого в философской методике диалогичности, герменевтике, комплексном анализе трудов старообрядцев позволяет выявить все особенности наследия прошлого России. Результаты исследования. Позиции этико-эстетического сознания расколоучителей волновали многих российских философов эпохи Серебряного века. Драматизм ситуации состоял в том, что полного примирения между сторонами раскола русской духовной мысли так и не произошло. Обсуждение и заключение. Многие идеи протопопа Аввакума, одного из лидеров старообрядчества на Руси, продолжают быть актуальными и до настоящего времени. Вопросы моральной и социокультурной идентичности россиян как «последнего православного царства» носят эсхатологический характер. Многие аспекты ритуализма и обрядоверия сохраняются в среде русского народа и в среде многих российских и зарубежных общин верующих. Конфессио-нальная культура древнерусской эпохи остается для многих современных исследователей загадкой и носит актуальный характер, поскольку многие аспекты данной проблематики остаются малоизученными. Важной является тематика анализа влияния старообрядческих традиций на судьбы духовности русского народа.
Традиция, мораль, консерватизм, культурное наследие руси, старообрядчество, религиозность, идентификация
Короткий адрес: https://sciup.org/147236033
IDR: 147236033 | УДК: 130: | DOI: 10.15507/2078-9823.56.021.202104.429-438
Текст научной статьи Традиции старообрядчества и судьбы русского мира в ХХI столетии: культурфилософский аспект
Наследие древнерусской культурной жизни, носившее во многом консервативные черты, сохраняет актуальность не только для исследователей истории и культуры Древней Руси, но и для современного российского общества, поскольку многие его существенные аспекты продолжают действовать. Указанное обстоятельство является достаточно значимым фактором и в современной жизни россиян, обладая универсальным ценностно-мировоззренческим характером, что дает основания ставить фактор религиозности старообрядчества на междисциплинарный уровень исследования.
Цель исследования заключается в рассмотрении специфики развития морального и эстетического воздействия традиций старообрядчества на развитие российского общества.
Материалы и методы
В современном понимании комплексное исследование социокультурных трансформаций представляется важным в контексте герменевтической трактовки духовного наследия старообрядчества путем экстрагирования морального значения традиции старообрядчества из трудов его адептов.
Результаты исследования
Системность и завершенность духовной традиции старообрядчества, согласно данным представителей философии русского консерватизма и традиционализма, генетически развертывается как сигнифи-кация глубинных смыслов бытия религиозных традиций, консолидирующих вокруг себя социальные общности (С. Н. Булгаков), симфонийно-личностные образы (Л. П. Карсавин), социокультурные ситуации (В. Н. Лосский), этнические общности (П. А. Флоренский). Исследователь русской старины А. И. Миллер отмечал конфликтность отношений русских со своим государством, которое создавало различные формы притеснения, что порождало религиозные формы протеста со стороны населения [11, с. 11].
Во второй половине XIX в. в среде европейских интеллектуалов вновь отмечен спор о соотношении традиционного и модернизационного трендов в духовной жизни социума. Рассматривая в указанном плане проблемы духовности в религиозной философии, выдающийся западный теолог того времени П. Й. Тиллих писал: «Религия – не особая функция духовной жизни человека, а составляющая глубины всех ее функций» [15, с. 239].
В новейшей социокультурной действительности гуманитарий рассматривает различные контаминации духовного бытия социума, обращая внимание на распространенную статистическую константу современной религиозной жизни россиян: признать за официальным православием доминирующее положение и выявить подлинную русскость в дохристианских верованиях и традициях. Имеется ли альтернатива указанным тенденциям современного гуманитарного дискурса относительно духовного наследия Древней Руси, а также насколько данные проблемы можно рассмотреть сквозь призму религиозно-культурного перфекционизма? Ответы на поставленные вопросы могут носить антиномичный характер.
Во-первых, социокультурное наследие древнерусского общества сохраняет актуальность исходя из проблемы сохранности опыта морального развития личности восточно-христианского типа. Восточно-христианское мировоззрение, соединив многие пласты духовно-нравственного быта разных народов, привнесло на Русь уникальный сплав религиозных канонов и обычаев, органически воспринятых в древнерусский период отечественной истории, сформировав многие социальные кластеры и институты Древней Руси, но не захватывало быт человека в целостности. По наблюдению западного историка Дж. Х. Биллингтона, «в ходе истории русские, сталкиваясь с необходимостью культурных перемен, раз за разом прибегали к обширным заимствованиям у своих западных противников. В Х и XI столетиях они переняли культуру и религию Византии, на которую до того совершали набеги; свои первые современные правительственные учреждения они позаимствовали в начале XVIII в. у шведов, с которыми долго сражались; язык и образ жизни аристократии - у французов, разграбивших в начале XIX в. Москву; основные формы организации промышленности – у немцев, с которыми они в XX столетии дважды сражались в мировых войнах. Затем, в пору “холодной войны”, главным западным врагом Советской России, которого она стремилась “догнать и перегнать”, стали Соединенные Штаты – и именно в них постсоветские реформаторы видели основной образец для построения в континентальных масштабах федеральной демократии и рыночной экономики» [2, с. 11–12].
Во-вторых, распространение традиций православия в будущей Московской Руси в среду социокультурного быта русского человека оказалось интенсивным тогда, когда падение Византии и Золотой Орды укрепило в Восточной Руси самобытные традиции не без определенных последствий рецепции ордынского наследия. Христианское моральное сознание носило в Московском государстве лишь образ внешнего регламентирования быта и духовных норм народа, регулировало формально-обрядоверческое состояние взаимодействия людей, шаблоны внутрисемейных отношений, но не проникло в каждодневную практику поведения и межчеловеческих отношений. Под воздействием авторитета золотоордынского централизма и диктата в политических устоях восточно-русского общества утверждаются именно ориенталистские нормы политической культуры.
Территории, ставшие впоследствии Украиной (южнорусские земли), в силу исторических причин оказались под воздействием вестернизаторских тенденций культурной жизни. Достаточно указать на факт получения Киевом магдебургского городского правового статуса и довольно системное и спланированное, последовательное проведение по греческому формату церковной «справы» киевским митрополитом Иовом Борецким.
В Новое время обострение внимания московского общества и «ревнителей старины» к истокам культуры Руси – России, к вопросам о месте и роли религиозной организации в общественном самосознании в России сопровождалось стремлением к усилению государственной власти, которая оказалась в системе цезарепапистких религиозно-политических отношений. В условиях Нового времени Московское государство стремилось расширить диалоговое пространство взаимодействия между Западом и православным Востоком, стремясь воспринять технические достижения западноевропейских обществ и наработки Восточно-греческой церкви. Исследователь данной проблемы Дж. Х. Биллингтон писал: «Подлинный раскол заключался в расхождении между москвитянским идеалом органичной религиозной цивилизации, который лелеяли и Аввакум, и Никон, с реальным положением вещей после 1667 г., равно неприемлемым для них обоих, когда Церковь превратилась в подчиненный институт светского государства» [2, с. 200].
Исследователи духовной культуры «государствообразующего этноса» Московской Руси в новейшем дискурсе истории морали достаточно четко усматривают трансформации нравственного сознания россиян Нового и Новейшего времени. В указанном плане весьма важным считаем рассмотрение вопросов этико-эстетического содержания учения русских расколоучи-телей. В данном ракурсе привлекает внимание позиция западных исследователей о сохранении черт консерватизма русскими старообрядцами.
Многие зарубежные исследователи, указывая специфичность русской религиозной истории, указывали на тот факт, что при анализе религиозности российского общества фактор его нравственно-регулятивной функции остается значимым и сегодня. Известные на Западе авторы трудов по специфике старообрядчества указывают и на то обстоятельство, что важно представить в широком контексте концепты Дж. Х. Биллингтона касательно «икон под топором» на Руси, а также культурного взаимодействия западных обществ и государств в отношении стран Восточной Европы и России.
На процесс развития Российского государства оказало существенное влияние то, что ряд показателей компетентности управленческой элиты Московии второй половины XVII в. не были высокими относительно западных стандартов. Указанное обстоятельство, вероятно, стало причиной того, что в условиях стремительно менявшихся в то время геокультурных и политических процессов в Европе российские элитарии оказались неспособными отразить многие вызовы внешнего и внутрирос-сийского плана развития. Оказавшись од- ним из инициаторов церковных реформ на Руси, патриарх Никон обнаружил в своей деятельности теократические устремления. Его позиция в вопросе соотношения духовной и светской власти однозначна: Никон настаивал на приоритетном положении духовенства, тем самым выступая за укрепление теократических тенденций в русской религиозной жизни и традиции симфонии властей [5].
В отношении того времени многими учеными-русистами наблюдались бескомпромиссная реформа восточно-русского языка и литературы в Московии, утверждение фактически «фряжского письма» в иконописании, нарушение древнего, сохранившегося на Балканах, распева церковной музыки и др. Это была одна из трагедий истории русского общества. По словам современного исследователя В. В. Аверьянова, реформа русской церковной жизни времен царя Алексея Михайловича оказалась критичной: «Алексей и Никон нанесли первый мощный удар как по русской традиции, так и по единству населения» [8, с. 109].
Древнерусский уклад духовной жизни был фрагментирован никонианской политикой. Его подлинными наследниками провозгласили себя сторонники партии протопопа Аввакума, ревнители старины [7]. Впоследствии патриарх Никон не вписался во вселенско-теократический замысел царя Алексея Михайловича и был отстранен от русского патриаршества, но вопросы преследования ревнителей старины оказались неразрешенными для России, во многом до 1971 г.
Мировоззренческие основания творческого наследия старообрядчества базировались на синтезе раннехристианской аскетической традиции и восточнославянского духовного уклада, сложившегося еще в домонгольской Руси, при сохранении обычаев восточнославянских этносов, генетически восходящих к дохристианскому образу мировосприятия. Современное общество изменяется быстрее, чем какая-либо религиозная традиция. В указанном плане религиозность как часть социальных процессов может охватывать почти все уровни и элементы социального бытия, представляя собой консервативное и охранительное начало взаимодействия человека и культур. В ней много артефактов и ценностей прошлого, но при этом религиозная сфера жизни людей воспринимается многими российскими философами именно как центр преемственности настоящего от культурных достижений и традиций прошлого.
Обсуждение
В начале ХХ в. представители отечественной общественной мысли, русские философы - сторонники учения о всеединстве анализировали проблематику взаимодействия религиозности и модернизации российского социума (В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский). Они указывали на необходимость отхода редукционистского рассмотрения социально-антропологических тем в философии, критикуя устаревшие взгляды позитивистов ХIХ в. Критикуя вестернизирующие тренды в тогдашней европейской социальной науке, отечественные мыслители ставили вопрос о комплексном решении проблем соотношения традиций и новаций в духовной сфере социума.
В начале ХХ в. религиозно-философская линия в рассмотрении вопросов духовного развития российского социума испытывала трансформации, обусловленные сменой ценностных парадигм развития России Новейшего времени, демографическими переменами в России. Возвращение к изучению специфики русской самобытности, осмыслению ментальности и бытового уклада Древней Руси стало важнейшей тенденцией религиозно-философских исканий представителей отечественной философии. При столкновении со всё более мощными волнами модернизации русская обще- ственная мысль пыталась рефлексировать в контексте синтеза прошлого и новейшего в российском социокультурном бытии. В связи со многими переменами опыт древнерусского культурного и морального форматов человеческого взаимодействия оказался ценен для исследователей [6].
В понимании феномена социального бытия верующего человека идеологи старообрядчества исходили из общей концепции соборности со свойственной ей филантропией, которая сориентирована созерцательно по отношению к нравственному идеалу личности. Достаточно ясно это просматривается в главной работе основоположника раскола Аввакума - «Житии...». Здесь личное начало проявляется в образе главного героя - носителя истинной веры и морали, деянием утверждавшего свой идеал. По словам Д. С. Лихачева, «Аввакум писал свои сочинения тогда, когда над ним… в глазах его приверженцев мерцал уже ореол мученичества» [10, с. 245].
Известный как выдающийся лидер старообрядчества на Руси протопоп Аввакум (1621–1682) был автором ряда сочинений, включая уникальный по автобиографическому содержанию труд «Житие...». Эпистолярное творчество мыслителя проникнуто обличительным и наставительным содержанием, развивает самобытный и оригинальный стиль и топику восточнорусского языка. В области эстетики он был противником новых веяний в искусстве. По замечанию Аввакума, многие проблемы от нерадения нравственного быта греков, воспринятого россиянами: «Иноземцы те, что знают? Что велено, то и творили. Своего царя Константина, потеряв безверием, предали турку…» [Цит. по: 5, с. 404].
Внутренний мир здесь выступает как хранитель высшей духовности этноса, как и внешний, который координируется общей консервативно-защитной линией старообрядцев. Российский этик Р. Г. Апресян указывает, что религиозная мораль определяется аскетической направленностью, борьбой со страстями и искушениями, «…стремлением человека к высочайшему совершенству – для Бога» [1].
Многие пласты этико-эстетического наследия в воззрениях расколоучителей остаются малоизученными. В эстетическом срезе духовно-культурных тенденций бытия древнерусского общества, при изучении его культурной жизни исследователями, часто задается вопрос: если «плотский» стиль, вероятно, близкий барокко, развиваемый в высших русских феодальных кругах, отрицается протопопом Аввакумом, то что составляло перспективу русской национальной живописи? [4, с. 166].
До настоящего времени вопрос решался в пользу признания отрицательного отношения Аввакума ко всем новым тенденциям. Между тем углубленные исследования эстетических взглядов Аввакума позволяют констатировать вовсе не негативное отношение в изографии. А. Н. Робинсон выявил и системно указал позитивные положения эстетики старообрядчества. Указанные положения эстетических воззрений можно свести к следующим констатациям: 1) божественное по своей высоте, по существу «не человекообразно». Поскольку и Христос вочеловечился, его «сугубой» природе свойственна особая «господня красота»; 2) человеческое естество должно изображать как есть, без особого «плотньско-го» изыска, проявленного в «слабостехъ» «... от поста и пота, и труда, и всякая им на-ходящия скорби» [12, с. 381].
Можно посчитать, что идеалом Аввакума был образ аскета-анахорета. Однако это не так: он ратовал за естественное «румян-ство», а не за искусственное белое, допускал красивые ризы, которые должны быть у Отцов Церкви. Требование изображать святых, какими они были при жизни, основывалось не на узком принципе «плотньскости», про- тив чего он боролся, а на высочайшем принципе духовной красоты. Хорошо известно, что таких взглядов придерживались и единомышленники Аввакума.
Протопоп Аввакум не упоминал в своих трудах А. Рублева или Дионисия. Тем не менее есть основания считать, что именно на его произведениях строится эстетика «плоти и души обожженного человека» старообрядцев.
Аввакум впервые побывал в Москве в 1646–1647 гг., в 1652 г. переехал в Юрьевец-Повольский. Это произошло не без содействия царского духовника С. Вонифатьева. С. Вонифатьев жил в Московском Кремле и играл важную роль в духовно-нравственном преображении русского общества и возвышении церковных обрядов.
Аввакум не был ни консерватором, ни архаистом во взглядах на эстетические ценности. Подобно предшественнику Д. Савонароле (1452–1498), выступал страстным заступником истинного величия и чистоты человека в единстве духовных и плотских качеств.
Во второй половине XVII в. гуманистическая линия просвещенчества в среде старообрядчества наиболее системно поддерживалась многими расколоучителями. В. В. Бычков указывал, что многие достижения древнерусской этико-эстетической традиции старообрядческими учителями были «…подняты до удивительно высокого уровня словесной науки» [3, с. 148].
Выдающийся русский философ
В. С. Соловьев отмечал, что негативные последствия раскола остаются незыблемыми. По его мнению, ни кровавые репрессии никониан, ни бюрократическое давление со стороны российских имперских властей, ни официальная критика русского официального духовенства в отношении старообрядчества не смогли поколебать тезис, что в имперской Российской церкви не сохранилось подлинно духовного руковод- ства народной религиозностью. Однако, как считал В. С. Соловьев, истина «нашего протестантизма» далее указанного факта не продвинулась [13].
Ко второй половине ХIХ в. Россия столкнулась с необходимостью переоценки традиционной культуры и ценностей прошлого, в том числе наследия «православности и церковности». Данная проблема актуализировалась при более тесном соприкосновении русской культурной традиции с византийскими образцами социального бытия и идеалов Запада. В. С. Соловьев, рассматривая специфику развития русской культуры, отмечал: «В силу… разобщения с Европой, воздействия монголов и одностороннего влияния византинизма... сложился в Московском государстве духовный и жизненный строй, который никак нельзя назвать истинно христианским: по византийским понятиям, усвоенным Москвою, от большинства людей, от всего христианского не требовалось ничего, кроме веры» [14]. В. С. Соловьев называет влияние византийских традиций достаточно проблематичным и консервативным в области духовной жизни россиян.
Может ли культурно-исторический и интеллектуальный опыт прошлого быть полезным для решения современных социокультурных проблем? Вопрос риторический! Он позволяет не повторять прошлые ошибки и выступает в качестве реальной основы для философского осмысления тех изменений, которые происходят и могут произойти в сфере общечеловеческого бытия. С. А. Зеньковский своевременно заметил: «Русь должна… хранить чистое православие. Ее исторические задачи и обязанности в отношении православия и всего христианства... определялись, как охранительно-консервативные, а не миссионер-ски-экспансионные» [7, с. 24].
Отметим, что использование терминов «басурмане» и «иноверцы» в официальных документах эпохи Московского государства означает отсутствие целостного христианского мировоззрения. Протестантское понимание ценностей духовной жизни человека означало несколько иное понимание христианского дискурса, нежели расколоучители могли себе это позволить на Руси. Т. Шпид-лик заметил: «Мессианская идея раскольников была глубоко эсхатологической: они считали себя единственными, ожидающими второго пришествия Христа в падшем мире, который хочет воздвигнуть новый Рим по образцам мира разложившегося» [16, с. 200].
В российской истории доминирования протестантского понимания религиозного быта не состоялось, был старообрядческий раскол – качественно другой процесс развития религиозности социума. В то же время было бы неверно утверждать, что на Руси христианских традиций не знали в полной мере, что Россия не знала христианство по-настоящему, поскольку оно само по себе глубоко неоднородно: здесь присутствовали различные ответвления и пласты религиозного сознания, разные традиции. Однако даже сейчас можно констатировать, что развитого религиозного мировоззрения и системности традиций религиозности среди россиян не сложилось, как и нет сложившейся конфессиональной культуры российского социума, без напластований мифологизма и устаревших, даже морально «токсичных» идеологических штампов. В Новейшее время многие мифологические представления относительно религиозного фактора начинают изживаться, многое становится отжившим и устаревшим, со- циокультурная идентичность вновь становится отличительным маркером социального бытия человека. По наблюдениям современного американского исследователя С. Ф. Хантингтона, доминирует вестернизирующее воздействие: «Случайные, непродолжительные и разноплановые контакты между цивилизациями уступили место непрерывному всепоглощающему однонаправленному воздействию Запада на все остальные цивилизации» [17, с. 63].
Заключение
Сравнивая позитивный и деструктивный опыт духовного развития старообрядческих традиций российского социума, можно заметить большой интерес и заинтересованность ученых-гуманитариев в анализе опыта староверческих общин Руси - России и Русского зарубежья. Много ценного содержится в уникальном «домостроительстве» русских раскольников, сохранивших древнерусский уклад бытия и культуры. В указанном контексте духовно-нравственного воздействия традиций Древней Руси на верующего и приходскую общину выявлены механизмы позитивного воздействия на нравственную сферу человека (обличение пороков гордыни и зла, зависти и эгоизма; побуждение к милосердию, утешению, любви к ближнему, смирению, возвышению духовного начала). Развивая духовно-практические походы к бережному сохранению традиций прошлого, следует акцентировать внимание на важных сторонах сохранения преемственности духовного созидания человека в процессе культивирования вопросов воспитания и социализации.
Список литературы Традиции старообрядчества и судьбы русского мира в ХХI столетии: культурфилософский аспект
- Апресян Р. Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы. - М. : Институт философии РАН, 1995. - 353 с.
- Биллингтон Д. Россия в поисках себя : пер. с англ. - М. : Российская политическая энциклопедия, 2005. - 224 с.
- Бычков В. В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica : в 2 т. Т. 2 : Славянский мир. Древняя Русь. Россия. - М. ; СПб. : Университетская книга, 1999. - 527 с.
- Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. - М. : Искусство, 1993. - 255 с.
- Древняя русская литература : хрестоматия. - М. : Просвещение, 1988. - 429 с.
- Елдин М. А. Русская религиозная традиция и финно-угорская этнокультурная общность // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. - 2011. - № 2. - С. 151-155.
- Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. - Минск : Харвест, 2007. - 543 с.
- Калашников М. А., Аверьянов В. В., Фурсов А. И. Новая опричнина, или Модернизация по-русски. - М. : Фолио, 2011. - 448 с.
- Кеслер Я. А. Русская цивилизация вчера и завтра. - М. : Олма-Пресс, 2005. - 507 с.
- Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 320 с.
- Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. - М. : Новое литературное обозрение, 2008. - 248 с.
- Робинсон А. Н. Идеология и внешность. Взгляды Аввакума на изобразительное искусство // Труды Отдела древнерусской литературы. - М. ; Л., 1966. - Т. 22. - С. 352-381.
- Соловьев В. С. Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться? // Златоструй. -1992. - Вып. 2. - С. 7-8.
- Соловьев В. С. Несколько слов в защиту Петра Великого // Соловьев В. С. Собрание сочинений : в 11 т. - СПб., 1908. - Т. 5. - С. 164.
- Тиллих П. Избранное. Теология культуры. - М. : Республика, 1995. - 479 с.
- Шпидлик о. Томаш. Русская идея: иное видение человека / пер. с фр. В. К. Калинского и Н. Н. Костомаровой. - СПб. : Издательство Олега Абышко, 2006. - 464 с.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева. - М. : АСТ : Астрель, 2011. - 511 с.