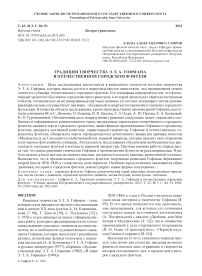Традиции творчества Э. Т А. Гофмана в отечественном городском фэнтези
Автор: Сафрон Е.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования заключается в выявлении элементов поэтики творчества Э. Т. А. Гофмана, которые используются и переосмысляются писателями, чьи произведения можно отнести к субжанру отечественного городского фэнтези. Его специфика определяется тем, что фэнтезийный хронотоп обусловлен городским пространством, в котором происходят сверхъестественные события, потенциально не мотивированные научным знанием, а в поэтике доминирует мотив двоемирия (параллельно сосуществуют два мира - обыденный и сверхъестественный) и элементы городского фольклора. В качестве объекта исследования, кроме непосредственно произведений Гофмана, выступили сочинения М. и С. Дяченко, О. Кожина, В. В. Орлова, Г. Л. Олди, А. Ю. Пехова, Е. А. Бычковой, Н. В. Турчаниновой. Обозначенная цель подразумевает решение следующих задач: определить особенности гофмановского романтического героя, наследуемые писателями отечественного городского фэнтези; выявить черты городского хронотопа, свойственные произведениям Гофмана и городскому фэнтези; раскрыть мотивный комплекс, характерный творчеству Гофмана и отечественному городскому фэнтези; обнаружить черты зарождающегося детективного жанра (на примере новеллы «Мадемуазель де Скюдери») и свойственной ему игровой природы, которая находит свое отражение в изучаемом фэнтезийном субжанре. Актуальность исследования обусловлена необходимостью рассмотреть городское фэнтези в контексте мировой литературы. Научная новизна работы определяется тем, что ранее рецепция творчества Гофмана в произведениях фэнтези не рассматривалась. В работе используются методы мотивного анализа, интертекстуального анализа, рецептивной эстетики. Выясняется, что в произведениях городского фэнтези творческая рецепция Гофмана переживает второй (после 1830-1840-х годов) виток популярности. Особенно продуктивным оказывается образ двойника, который в городском фэнтези демонстрирует новые формы воплощения.
Городское фэнтези, гофман, романтический герой, рецепция, мотив родового проклятья, мотив сделки с дьяволом, городской хронотоп, двойник, мотив безумия, мотив куклы / автомата
Короткий адрес: https://sciup.org/147227347
IDR: 147227347 | УДК: 821.161.1:82-344+82-312.9+82.02:821.112.2 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.605
Текст научной статьи Традиции творчества Э. Т А. Гофмана в отечественном городском фэнтези
Рецепция творчества Э. Т. А. Гофмана – тема, которая стала предметом научного исследования еще в начале ХХ века (статьи А. И. Кирпичникова [7: 96], Т. Левита [10], С. Родзевича [15]). С 1970-х годов начинается выход гофмановедче-ских работ, в которых рассматриваются не только заимствование отдельных элементов поэтики писателя, но и особенности художественного мышления Гофмана, которые используют российские авторы, возможные формы полемики с немецким писателем (А. Б. Ботникова «Э. Т. А. Гофман и русская литература» (1977), сборники «Художественный мир Э. Т. А. Гофмана» (1982), «В мире Э. Т. А. Гофмана» (1994)).
1830–1840-е годы в России считаются периодом пика интереса к творчеству Гофмана [8: 99]. В это время появляются как оригинальные произведения, для которых его сочинения послужили неким источником вдохновения (А. Погорельский с циклом «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» [4: 12]), так и множество произведений в духе откровенного подражания (В. Н. Олин «Странный бал», «Черный паук, или Сатана в тюрьме») [8: 101].
Несмотря на то что с указанного периода прошло уже почти два столетия, наследие великого фантаста находит свое отражение в творчестве авторов сегодняшнего дня, и прежде всего авторов городского фэнтези.
РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ГОФМАНА
В ГОРОДСКОМ ФЭНТЕЗИ
Центральная тема творчества писателя, выдающая в нем представителя романтического направления, – противостояние возвышенной неординарной личности с бытовым миром филистеров. В такой личности вмещается «вся история мира» [24: 694–697], но это не избавляет ее от неудовлетворенности жизнью: она мучается стремлением к некоему идеалу, который не может выразить. Такой персонаж смотрит исключительно ввысь, поэтому не замечает, что происходит у него под ногами, шокирует окружающих, то есть ставит себя в оппозицию по отношению к простым обывателям. В городском фэнтези также обнаруживаются подобные герои – неуверенные в себе, несобранные неудачники, которые переживают полное перерождение при контакте с миром сверхъестественного [19: 131].
Например, сэр Макс из «Лабиринтов Ехо» М. Фрая в земном мире страдает вечной бессонницей, не может ни построить отношения с девушкой, ни устроиться на нормальную работу, а при перемещении в иной мир вдруг превращается в преуспевающего мага и сыщика; юная закомплексованная девушка Александра из романа «Vita Nostra» М. и С. Дяченко, получив приглашение обучаться в университете для людей со сверхъестественными способностями, постепенно перерождается в Слово, часть великого Гипертекста, управляющего миром. Эти персонажи отходят от внешней пассивности, чтобы стать настоящими романтическими героями, которые, по верному замечанию Д. Л. Чавчанидзе, с самого своего рождения стоят на позиции активного отрицания [22: 61].
По мнению упомянутого исследователя, Гофман в своих романах проводит некий «опыт о личности» («Эликсиры Сатаны», «Житейские воззрения кота Мурра») [22: 79], которая вследствие своей двойственной, наполовину возвышенной, наполовину сугубо земной природы оказывается в ситуации тупика, из которого принципиально не может быть выхода, так как романтик никогда не сможет найти себе место в реальной жизни. В центре произведения городского фэнтези также часто оказывается личность, погружая которую в череду фантастических событий, автор ставит некий опыт, однако его герой выходит победителем из сложившейся ситуации, причем неважно, принимает он свою новую сверхъестественную природу или нет (М. и С. Дяченко «Vita Nostra», Д. С. Лукьяненко «Черновик»). Такой герой либо полностью перемещается в сверхъестествен- ный мир, либо отказывается от него, выбирая реальность (О. Кожин «Охота на удачу»). В любом случае, его духовное становление позволяет придать роману законченную форму.
Приход фантастического в жизнь героя Гофмана носит внезапный характер. Так, в объятия Перегринуса Тиса из «Повелителя блох» вдруг бросается прекрасная сказочная принцесса Гамахея, а одаренная удивительной мудростью блоха вручает герою чудесное стекло, помогающее читать мысли других существ. При этом введение в текст сверхъестественного значительно ускоряет скорость развития событий: если до этого жизнь героя текла размеренно и автор делал акцент исключительно на самых важных событиях, то теперь происходящее начинает напоминать ускоренную съемку, то есть повествование приобретает кинематографический характер. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в городском фэнтези: Константин Алексеев из «Нюансеров» Г. Л. Олди внезапно получает по наследству квартиру от незнакомой ему гадалки Заикиной, а приехав на место, не только вовлекается в круг людей, умеющих менять будущее, но буквально за пару дней и сам обретает данное умение; Герман из романа О. Кожина «Охота на удачу» случайно находит чудесную монетку-талисман и моментально становится мишенью для демонов, желающих ее заполучить, заставляя героя переживать все новые и новые смертельно опасные ситуации.
При создании образа героя Гофман нередко прибегает к определенному ряду мотивов.
-
1. Мотив родового проклятья (новелла «Вампиризм», повесть «Майорат», роман «Эликсиры сатаны»): его персонаж не просто обречен страдать благодаря воздействию чей-то негативной воли, но вынужден сам творить зло.
-
2. Мотив сделки с дьяволом (новеллы «Огненный дух», «Игнац Деннер», «Зловещий гость», «Приключения в новогоднюю ночь»). Чаще всего герой жертвует своей бессмертной душой ради обретения счастья в любви. Так, в новелле «Огненный дух» молодой полковник Виктор фон С. готов отречься от Бога ради чувства к саламандре, являющейся к нему ночью в образе прекрасной рыжеволосой девушки:
-
3. Мотив отказа от чудесного дара: проходя через многочисленные испытания, герой начинает понимать, что должен полагаться только на собственные силы и не пытаться претендовать на возможности, предоставляемые им миром сверхъестественного. Так, Перегринус Тис из «Повелителя блох» отказывается от волшебного стекла, которое помогало читать чужие мысли: «Преступление, безбожное преступление желать, подобно павшему ангелу света, сравнивать себя с вечной силой, которая читает в душах людей, потому что владеет ими»3. Также поступает и юный Герман Воронцов из романа О. Кожина «Охота на удачу»: поверив к финалу произведения в собственные силы, добровольно отказывается от волшебной монетки, наделявшей его сверхъестественной удачей.
-
4. Мотив безумия, причем безумием страдают как люди, так и фантастические персонажи – призраки. Апогей трагической коннотации в случае с сумасшествием героя в его посмертном состоянии обусловливается тем, что если для живого человека сам факт завершения жизненного пути выступает в качестве своеобразного «лекарства» от душевной болезни, то в случае с мертвым героем от безумия нельзя излечиться (повести «Майорат» и «Игнац Деннер»). Творческое развитие образа мертвого сумасшедшего обнаруживается во многих произведениях городского фэнтези. В качестве примера возьмем образ Некрополита из вышеупомянутого романа О. Кожина: священник, решивший построить церковь на месте вепсского капища, сходит с ума, основывает секту и объявляет себя мессией. Разъяренные прихожане убивают его, но он продолжает свое существование на границе мира живых и мира мертвых, убивает детей и подростков мужского пола и превращает их в зомби, будучи при этом в полной уверенности, что покойные по доброй воле хотели примкнуть к его «пастве».
-
5. Мотив двойника, который, по словам Е. В. Новиковой, проявляется и на уровне персонажей, и на уровне романтической раздвоенности сознания одного героя [14], благодаря чему исследователь выделяет следующие типы двойников:
-
5.1. Двойник-ничтожество, которого посторонние наделяют прекрасными свойствами и талан-
- тами, свойственными герою-оригиналу (Цахес из «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»);
-
5.2. Герой, в итоге отказывающийся от романтически возвышенной составляющей в пользу бытового (Бальтазар из «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», Ансельм из «Золотого горшка»);
-
5.3. Подмена одного героя другим: Перегри-нус Тис из «Повелителя блох» мечтает жениться на прекрасной принцессе Гамахее, но в итоге находит свое семейное счастье с дочерью бедного переплетчика; Виктория из «Золотого горшка» хочет выйти замуж за студента Ансельма, но становится надворной советницей Геербранд, то есть выходит замуж за приятеля своего бывшего жениха, потому что он обладает соответствующим положением в обществе;
-
5.4. Подмена реального человека куклой-автоматом (Клара замещается роботом Олимпией в «Песочном человеке»);
-
5.5. Доппельгангер, воплощающий темную сторону человеческой души (Коппелиус у Натаниэля из «Песочного человека», граф Викторин и сумасшедший монах у Медарда из романа «Эликсиры сатаны»);
-
5.6. Двойник-пародия на романтического героя (Пауль Талькебарт и Альберт из новеллы «Огненный дух», кот Мурр и Крейслер из романа «Житейские воззрения кота Мурра») [14].
-
5.2. Кирилл из романа С. Лукьяненко «Чистовик» отказывается от сверхъестественной части своей души, обладающей умением перемещаться между мирами, в пользу жизни рядового москвича. Ивга Старж из цикла «Ведьмин век» М. и С. Дяченко жертвует своим альтер эго – Великой Матерью ведьм ради того, чтобы на Земле не случилась катастрофа и ведьмы не уничтожили всех людей.
-
5.3. Замену одних героев другими можно обнаружить в романе М. и С. Дяченко «Долина совести»: главный герой по имени Вадим, обладающий сверхъестественным умением привязывать к себе людей, которые при расставании с ним умирают, отказывается от любви своей однокурсницы Анны и женится на Анджеле, наделенной таким же умением привязывать людей, как и он сам. Его единственный друг и одноклассник Дмитрий Шило умирает, когда Вадим заканчивает школу и уезжает поступать в московский вуз, но вместо него он обретает другого друга – Захара Богорада (его он сначала нанимает частным сыщиком, чтобы узнать о прошлом своей жены Анджелы). Таким образом, возникают пары двойников – Захар и Дмитрий, Анджела
-
5.4. Кукла, заменяющая собой человека: влюбленный в автомата Олимпию Натанаэль из «Песочного человека» Гофмана убежден, что его подруга живая (доминирует мотив оживления). С другой стороны, по мнению В. В. Гиппиус, образ куклы / автомата также определяет и мотив омертвения [3: 303], связанный с идеей нравственной деградации героя, а как следствие, гибели его души. В городском фэнтези традиционно преобладает образ куклы, ориентированный на семантику омертвения. Например, души персонажей романа О. Кожина «Охота на удачу» зашивались в кукольные тела из-за долгов за проживание в местной гостинице:
-
5.5. Доппельгангер – темная сторона героя, занимающая его место, обнаруживается в романе Г. Л. Олди «Свет мой, зеркальце»: отражение из зеркала писателя ужасов Бориса Ямщика вылезает из-под стекла, а Ямщика перекидывает в мир зазеркалья. Причем двойник заставляет героя полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь в земном мире: Борис не любит не только свою жену, называет ее исключительно не по имени (Неля), а по прозвищу (Кабуча), но и испытывает отвращение ко всем людям вообще. Показателен тот факт, что у них нет детей не потому, что кто-то из них бесплоден, а потому, что Ямщика дети вообще никогда не интересовали. Напротив, его двойник искренне заботится о его супруге, то есть показывает Борису, каким мужем он должен бы быть. Возвращаясь из мира зазеркалья, Борис пытается соответствовать уровню своего двойника, однако это получается лишь отчасти. Таким образом, двойник оказывается носителем темного начала только по отношению к главному герою, тогда как по отношению к другим демонстрирует лучшие, чем у Ямщика, качества.
«Я чувствовал на губах обжигающие поцелуи, и <…> услышал слова: “Можешь ли ты ради обладания мною отречься от неведомого тебе блаженства на небесах?”»1.
Мотив проклятья и мотив сделки с дьяволом также часто присутствуют и в городском фэнтези. Чаще всего они фигурируют в романах о вампирах [18]. К примеру, в цикле А. Ю. Пехова, Е. А. Бычковой, Н. В. Турчаниновой «Киндрэт»
тема семейного проклятья зашифрована уже в самоназвании вампиров – «киндрэт» (от англ. kin «родственники», «семья» и dratted «проклятый»)2. Здесь же можно обнаружить и вариацию мотива сделки с дьяволом: герои соглашаются стать вампирами ради романтических отношений с теми, кто уже отказался от мира смертных и отдал свою душу ради вечной молодости.
В городском фэнтези традиция двойника также представлена в многообразии форм4:
и Анна. В то же время Анджела и Влад также представляют собой двойников – некую аналогию доктора Джекила и мистера Хайда: Анджела всю жизнь активно пользуется своей властью над мужчинами, выманивая у них деньги, а затем убивая их, тогда как Влад скрывается от всякой возможности завести узы 5, чтобы снова не стать причиной гибели привязавшихся к нему людей.
«Я уже начал создавать для вас удобное вместилище. – Швец любовно похлопал сухонькой ладошкой по заготовке [руки]. <…> Эту часть примерить можно прямо сейчас… Острие иглы вошли в тряпичную конечность <…> Не веря своим глазам, Воронцов смотрел, как участок кожи на предплечье девушки натянулся, копируя состояние ткани. Из двух крохотных дырочек лениво сочились ярко-красные ниточки крови»6.
Еще один тип, который у Гофмана не встречается, – двойник-животное, выявленный в романе М. и С. Дяченко «Пещера». В произведении все герои во сне раз в неделю перемещаются в мир Пещеры, где каждый воплощает собой какое-то животное: хищника (сааг, схруль) и жертву (сарна). Соответственно, хищники поедают своих жертв, благодаря чему в реальной дневной жизни отсутствуют войны и преступления.
ТРАДИЦИИ ГОФМАНОВСКОГО ХРОНОТОПА В ГОРОДСКОМ ФЭНТЕЗИ
Городу (Берлину, Дрездену, Нюрнбергу, Парижу, Франкфурту-на-Майне) как литературному топосу отводится в творчестве Гофмана большое значение. Анализируя новеллы писателя, действие которых происходит в Берлине («Кавалер Глюк», «Выбор невесты», «Эпизод из жизни трех друзей»), А. Ю. Михайлова замечает, что в этих произведениях крайне подробно описываются улицы города, что в принципе для романтической практики нехарактерно [12: 288]. Такое же бережное воспроизведение улиц города мы можем найти в городском фэнтези. К примеру, В. В. Орлов в трилогии «Останкинские истории» рисует панораму Москвы, подробно воссоздавая места обитания своих персонажей, отлично знакомые коренным жителям столицы:
«Шли они берегом Яузы, а потом пересекли бульвар и голым, асфальтовым полем Хитрова рынка добрели до Подкопаевского переулка и у Николы в Подкопае свернули к Хохлам»7.
Городской хронотоп Гофмана выстраивается по принципу «переживания города» [13: 907]. Речь идет о явлении, когда город из объекта созерцания переходит во внутренний мир человека, становится частью его души [5]. Так, в новелле «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» читатель оказывается на улицах средневекового Нюрнберга, видит не только стоящие на них дома, но и их внутреннее убранство, уклад жизни обитателей. С точки зрения автора настоящей статьи, глубина «переживания» усиливается в творчестве Гофмана тогда, когда при построении образа города используется мотив фантастического «двоемирия» и привычные объекты и локусы обретают новый смысл, заставляя в бытовом разглядеть чудесное.
Время в произведениях немецкого писателя часто протекает в двух планах («Ночные этюды», «Эликсиры сатаны»): как время бытовой реальности – линейное, и как время сверхъестественного мира – мифологическое, вечное, в котором ведется бесконечная борьба Добра и Зла. Причем земное время оказывается «частным проявлением времени сакрального» [21: 92]. По мнению Ф. П. Федорова, данный факт является основной причиной для формирования трагической иронии позднего романтизма:
«…человек, погруженный в бытовое, историческое время <…> оказывается обреченным на неизменность; объявивший себя субъектом, оказывается лишь субъектом бытового времени <…> марионеткой вечности. Все это и делает неизбежным появление в позднеромантическом сознании такой категории, как судьба, ведущая к гибели» [21: 92].
Ослепление бытовым не позволяет человеку увидеть мир вечного, поэтому чудак Перегри-нус Тис не знает, что он царь Сикакис («Повелитель блох»), обладающий могущественным талисманом древности, соседи знают архивариуса Линдгорста, но не знают скрывающегося под его личиной мага («Золотой горшок»). Осознание истинной природы мира вечного обычно происходит только к концу повествования, тогда же наступает и понимание свойственной ему мифо-логичности [10: 287], однако это доступно только некоторым героям. Совершенно аналогичную ситуацию мы видим и в городском фэнтези: известный промышленник Константин Алексеев из романа Г. Л. Олди «Нюансеры» внезапно получает от незнакомой ему старой гадалки наследство, а по приезде в город узнает, что он относится к группе так называемых нюансеров – людей, способных программировать будущее с помощью перемещения предметов. К финалу произведения он полностью осваивает новые для себя навыки и начинает пользоваться преимуществами своего положения. В романе «Свет мой, зеркальце» того же автора мы видим писателя Бориса Ямщика, который оказывается перемещен своим двойником из Харькова в мир зазеркалья, где знакомится с демонами, пожирающими человеческие души, помогающими ему вернуться обратно и победить двойника.
ГОФМАНОВСКИЙ ДЕТЕКТИВ В ГОРОДСКОМ ФЭНТЕЗИ
Новелла Гофмана «Мадемуазель де Скюде-ри» считается первым произведением детективного жанра в европейской литературе [1], [20: 55]. Особо примечательна данная новелла тем, что следствие в ней носит многоуровневый характер: серия убийств расследуется сыщицей-любительницей, по имени которой названа новелла, королем, учредившим особый суд во главе с председателем Ларени, полицией и графом Ми-оссаном, который заманивает в ловушку, а потом ликвидирует самого преступника. Несмотря на такой обширный список сыщиков, именно любительскому расследованию мадемуазель де Скюдери сопутствует успех. Ее деятельности присущ игровой характер [6]: игра с преступным ювелиром Кардильяком начинается со стихотворения, которое она пишет в ответ на заявление короля о необходимости направить больше усилий на поимку убийцы. Стихотворение это потом она назовет «необдуманной шуткой». В ответ получит от убийцы письмо, в котором он процитирует ее стихи, таким образом, продолжая игру и все больше вовлекаясь в круговорот последующих событий.
Игровая природа данной детективной новеллы гармонично коррелирует c игровой природой, свойственной городскому фэнтези [9: 105], [11], [20: 55], которое и само достаточно часто обращается к детективным сюжетам, благодаря чему нам кажется возможным говорить о «фэнтезийном детективе» как о самостоятельном современном литературном явлении (в качестве примера можно взять повести из цикла М. Фрая «Лабиринты Ехо», роман Г. Л. Олди «Нюансеры»).
Обратим внимание, что мадемуазель де Скю-дери представляет собой тип «наивного сыщика» [6]: она не имеет навыков сыскной работы и не получала юридического образования. К этой же категории можно отнести и сэра Макса из «Лабиринтов Ехо» М. Фрая, который в земной жизни был диспетчером в редакции малотиражной газеты, а в фантастическом мире Ехо вдруг стал Ночным Лицом (заместителем) Почтеннейшего Начальника Малого Тайного Сыскного Войска, играючи расследующим любые преступления. По словам Т. И. Хоруженко, детективный элемент повестей базируется на конфликте профанного и магического, а поимка преступника обеспечивает сохранение равновесия одновременно в обоих мирах [23: 210]. Максу удается раскрыть дела прежде всего не с помощью своих сверхъестественных способностей, а невероятной удачи: он всегда оказывается в нужном месте в нужное время.
На мотиве игры с преступником основан роман Г. Л. Олди «Нюансеры»: перед смертью старая гадалка Заикина, умеющая видеть и планировать будущее, узнает, что во время ограбления банка будет убит ее правнук, поэтому она составляет особый план-игру, который должен свести с ума будущего убийцу. Ее план успешно реализуется, однако в итоге убийца прощен: после лечения он полностью теряет память и получает возможность вернуться к любимой женщине и отказаться от преступной деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования автор статьи приходит к выводу, что создаваемый Гофманом романтический герой в рецепции городского фэнтези претерпевает значительные изменения: если он делает выбор в пользу сверхъестественного мира, то его погружение не отягчено, как у Гофмана, профанно-бытовой составляющей; если же он делает выбор в пользу бытовой реальности, как, скажем, происходит с героем С. Лукьяненко из «Черновика» или героем О. Кожина из «Охоты на удачу», то делает это согласно своим представлениям о чести, долге и личном высоком предназначении.
Выясняется, что в городском фэнтези находят свое отражение многочисленные принципы моделирования двойников, используемые Гофманом, предлагаются также и новые типы. Например, тип животное-двойник – альтер эго героя, чей генезис отсылает нас к фольклорной волшебной сказке.
Отметим, что выстраиваемый немецким писателем хронотоп в лице авторов городского фэнтези находит продолжателей, бережно сохраняющих традицию: авторы как будто признаются в любви изображаемым городам (реальным и вымышленным), в которых время делится на бытовое – сиюминутное и сакральное – вечное, мифологическое, причем только избранным героям удается проникнуть во временную мифологическую плоскость, тем самым получая контроль над временем бытовой реальности. Предлагаемый тип «наивного сыщика», изображаемого Гофманом в лице мадемуазель де Скюдери, для городского фэнтези оказывается не просто достаточно продуктивным, но расширяется новыми свойствами героя – магическими умениями.
Список литературы Традиции творчества Э. Т А. Гофмана в отечественном городском фэнтези
- Бент М. Немецкая романтическая новелла [Электронный ресурс]. Режим доступа: Шр://19у-еиго-И1 niv.ru/19v-euro-lit/bent-nemeckaya-romanticheskaya-novella/evolyuciya-zhanra-novelly-u-gofmana.htm (дата обращения 19.01.2021).
- Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и Россия. Предисловие // Гофман Э. Т. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М.: Худож. лит., 2000. С. 297-322.
- Гиппиус В . В . Люди и куклы в сатире Салтыкова // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока / Отв. ред. Г. М. Фридлендер. М.; Л.: Наука, 1966. С. 295-330.
- Голова К. В . Рецепция творчества Э. Т. А. Гофмана в русской литературе первой трети XIX века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Магнитогорск, 2006. 24 с.
- Горнова Г. В . Переживание города // Вестник Омского государственного педагогического университета: Электрон. науч. журн. 2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.omsk.edu/article/ vestnik-omgpu-8.pdf (дата обращения 19.01.2021).
- Кириленко Н . Н . Детектив: логика и игра // Новый филологический вестник. 2009. № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://slovorggu.ru/nfv2009_2_9_pdf/06Kirilenko.pdf (дата обращения 19.01.2021).
- Кирпичников А. И. Антоний Погорельский. Эпизод из истории русского романтизма // Кирпичников А. И. Очерки истории новой русской литературы. 2-е изд. М.: Книжное дело, 1903. Т. 1. С. 76-120.
- Кожикова А. В . Русские эпигоны Гофмана: к проблеме трансформации элементов романтической поэтики // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2007. № 32. С. 99-103.
- Козьмина Е. Ю. Классический и фантастический детектив // Новый филологический вестник. 2012. № 2 (21). С. 96-106.
- Левит Т. Гофман в русской литературе. Послесловие // Гофман Э. Т. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М.: Недра, 1930. С. 333-371.
- Мельник В . В . Познавательно-эвристическое значение художественной литературы детективного жанра [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://detective.gumer.info/txt/melnik.doc (дата обращения 01.10.2021).
- Михайлова А. Ю. Берлин в изображении Э. Т. А. Гофмана-новеллиста // Вестник Чувашского университета. 2010. № 1. С. 286-291.
- Михайлова А. Ю. Художественное пространство города в новелле Э. Т. А. Гофмана «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» // Вестник ННГУ 2010. № 4-2. С. 907-909.
- Новикова Е. В. Типология героев-двойников и структурные особенности представления двойни-чества в произведениях Э. Т. А. Гофмана // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 11 [ Электронный ресурс]. Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/11/8202 (дата обращения 20.01.2021).
- Родзевич С. К истории русского романтизма (Э. Т. A. Гофман и 30-40 гг. в нашей литературе) // Русский филологический вестник. Варшава, 1917. Кн. 1. С. 194-237.
- Сафрон Е. А. Поэтика городского фэнтези. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2020. 96 с.
- Cафрон Е. А. Жанровое своеобразие романа В. В. Орлова «Альтист Данилов» // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Филология. Журналистика». 2017. № 1. С. 57-62.
- Сафрон Е. А. Тема власти в романе А. Ю. Пехова, Е. А. Бычковой, Н. В. Турчаниновой «Киндрэт. Кровные братья» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2020. № 8. С. 17-20.
- Сафрон Е. А. Традиции городской фэнтези в повести М. Ю. Лермонтова «Штосс» // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2017. № 1. С. 131-138.
- Тамарченко Н. Д. Детективная проза // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М.: Изд-во Кулагиной: Intrada, 2008. С. 55-56.
- Федоров Ф. П. Время и вечность в сказках и каприччио Гофмана // Художественный мир Э. Т. А. Гоф -мана. М.: Наука, 1982. С. 81-106.
- Чавчанидзе Д. Л. Романтический роман Гофмана // Художественный мир Э. Т. А. Гофмана. М.: Наука, 1982. С. 45-80.
- Хоруженко Т. И. Русское фэнтези на границе с детективом: трансформации жанра // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Филология. 2018. № 1. С. 209-216.
- Steffens Н. Caricaturen des Heiligsten. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1821. Bd. 2. 752 s.